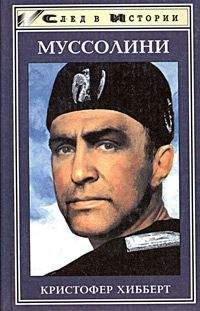В роте Ковалева, расположенной в Заволжье, в скучной степи, недалеко от Николаевки, существовали, как и в каждом человеческом объединении, будь то деревня, будь то завод или малая мастерская, свои внутренние, со стороны мало заметные отношения, мораль, судившая людей, их поступки и характеры и все события жизни. Существовали общие любимцы, люди, сильные духом, прямые, верные, смелые, а наряду с ними имелись и осужденные совестью ротного народа ловкачи и счастливцы. Таким был желтоглазый Усуров — задира, обжора и грубиян Таким был вредный старший сержант Додонов, любитель красноармейского приварка и табачку, сладкий с начальством и грубый с подчиненными, кляузный малый. К балагуру и рассказчику Резчикову относились хорошо, опекали его, но в то же время посмеивались, уважали, но с усмешечкой, словом, так, как часто в народе относятся к своим деревенским и заводским поэтам, к домашним философам и рассказчикам. Были и такие, которых мало кто знал по имени, люди безликие, молчаливые даже в тех случаях, когда грешно не сказать слова. Их знали в лицо, не по имени, и окликали: «Э, ты, рыжий» или: «Слышь, Пантюха…» Таким был всегда попадавший в беду Мулярчук: если обследовали на вшивость, то единственным показательным по вшивости оказывался Мулярчук; если случалась проверка обмундирования, то обязательно плохая заправка, оборванные пуговицы и пилотка без звезды оказывались у Мулярчука. Был в роте десантник, участник двадцати атак, удалец Рысьев, ладно сложенный, поворотливый, сухопарый. О нем всегда говорилось с улыбкой гордости: «Наш Рысьев всех обвел». В пути, когда везли эшелон, Рысьев соскакивал с ведром на ходу поезда и бежал к кубу, первым брался за медный кран, стоял, упершись рукой в стену кубовой, чтобы не сбили набегавшие сзади. И когда он легким, мягким шагом несся впереди громыхающей ведрами и котелками толпы, из ротной теплушки, хохоча, кричали: «Наш-то, наш опять ведет, в голове!»
Смекалистый человек, поглядев мельком на роту Ковалева, присмотревшись, пошагав с этой ротой, послушавши разговоров, похлебав из солдатского котла, понял бы, что в роте есть свой закон и люди живут по этому закону. Человек бы смекнул, что горластый и хитрый сумеет вовремя снискать бедную, но необычайно важную выгоду: подъехать на обозной подводе во время марша, получить увольнительную в нужную для жизни минуту, оторвать пару сапог по ноге. Но этот «смекалистый» человек ничего не понял, не понял главного закона, связывающего людей во взводах и ротах, закона, в котором часто можно найти разгадку победы и поражения, силы и бессилия армий.
Закон этот существовал естественно и просто, как биение сердца, и выражался постоянно. Присущую людям меру морали, убежденности в человеческом праве на трудовое и национальное равенство не уменьшили жестокости войны, раны, кровь, дым и пламя. В годы гитлеровского владычества фашистская «философия», как потаскуха, служившая дьяволу гитлеризма, бралась доказывать дозволенность рабства народов, убийств детей и стариков. Но в это время убежденность в трудовом и человеческом равенстве народов, любовь к советской земле шагала в рядах красноармейцев, она витала над кострами ночных красноармейских привалов, жила в сердцах бойцов, звучала в их ночных беседах, в речах комиссаров и коммунистов… Во фронтовой грязи, в мокром, тающем снеге, в сугробах, в пыли, в темных, наполовину налитых водой окопах трудовое советское братство дышало, жило в стрелковых ротах, батальонах, полках. Вот этот-то закон и объединял красноармейцев, правил стрелковой ротой, и обыкновенные люди, объединенные этим законом, создавшие его и подчинявшиеся ему, порой и не думая о нем, только в нем видели истинную меру человека, человеческих поступков и дел.
Вавилов всю свою жизнь работал. В нем наряду с чувством тяжести труда жило другое чувство — радость и волнение труда.
Выгребая против тугого течения быстрой реки, оглядываясь на вспаханное поле, глядя на гору выброшенного из траншеи торфа, слушая звенящий треск лопнувшего под давлением вогнанного клина суковатого плечистого бревна, меряя глазом глубину ямы, прямую высоту возведенной стены,— всегда испытывал он одновременно спокойное и стыдливое чувство своей силы. Труд был одновременно и тяжестью и радостью его жизни. Этот постоянный труд щедро и каждодневно вознаграждал его тем, чем богаты ученые, художники, реформаторы жизни,— напряжением борьбы, удовлетворением победы.
В годы колхозной жизни ощущение своей личной силы, своего умения слилось с ощущением единства силы народа и той доброй цели, которую ставил себе всенародный труд. В дни общей колхозной пахоты, в дни жатвы и молотьбы Вавилов чувствовал то новое, что было внесено в жизнь размахом колхозной работы. От края до края широкого поля трудились десятки и сотни людей. Гул автомобилей, рев тракторов, мерное движение комбайна, усилия трактористов, шоферов, бригадиров — все сливалось в направленном к одной цели общем труде. Все эти десятки и сотни рук — девичьих, мужских, старушечьих, одни темные от загара, другие темные от машинного масла, вместе поднимали пласты земли, скашивали, обмолачивали колхозное поле. И всякий работающий чувствовал свою силу в трудовой связи, объединявшей волю, умение, сноровку каждого отдельного колхозника в общей сноровке труда.
Он видел и знал, чем могут гордиться советские крестьяне перед светом: тракторы и комбайны, и моторы для насоса, качавшего воду на свиноферму и в коровник, на опытное поле, и дизели, и движки, и кое-где гидростанция на речке. Он видел, что в деревне кое-кто покатил на велосипеде, появились грузовики, росли МТС, где работали умелые механики, появились ученые полеводы, пасечники, мичуринские сады, появились птицефермы, колхозные конюшни и хлева́ с каменным полом, асфальт на многих дорогах. Казалось бы, еще лет десять—пятнадцать, и трудовая, дружная сила народа могла бы вспахать, засеять отборным, невиданным в мире зерном весь простор огромных земель. Но фашисты не стали ждать этой поры, пошли сразу.
На первом политзанятии, происходившем на вольном воздухе, лысый, большелобый политрук Котлов спросил у Вавилова:
— Вы кто, товарищ?
Тот ответил:
— Колхозный активист.
— Гвардии колхозный активист,— вполголоса подсказал Резчиков.
Ответ Вавилова насмешил всех, особенно Рысьева. Надо было ответить: «Красноармеец третьей роты, такого-то полка, такой-то краснознаменной гвардейской дивизии».
Но Котлов не стал поправлять Вавилова, а сказал:
— Очень хорошо.
Оказалось, что на политчасе деревенский Вавилов забил многих. Он знал и про Румынию, и про Венгрию, помнил, в каком году была пущена Магнитка и кто командовал Севастопольской обороной в 1855 году; рассказал о войне 1812 года; удивил всех, когда, поправив бухгалтера Зайченкова, сказал: «Гинденбург не военный министр был, а фельдмаршал у Вильгельма».
Котлов отметил Вавилова, и, когда случилась неясность и кто-то задал вопрос, политрук, усмехаясь, проговорил:
— Ну, а вы как бы ответили, товарищ Вавилов?
Вечером толстоносый лукавый Резчиков развеселил всех — встал перед Вавиловым навытяжку и скороговоркой произнес:
— Разрешите обратиться, товарищ колхозный активист. Вам комиссар дивизии полковой комиссар Вавилов не родственником ли приходится?
— Нет, не родственник, должно быть, однофамилец,— ответил Вавилов.
На рассвете командир роты лейтенант Ковалев, о котором было известно, что он сохнет по санинструктору Елене Гнатюк и потому плохо спит, поднял роту по тревоге, устроил учебную стрельбу. Но тут уж Вавилов ничем не отличился — не имел попаданий.
В первые дни занятий его подавили сложность и многообразие оружия — винтовки, автоматы, гранаты, ротные минометы, ручные и станковые пулеметы, противотанковые ружья… Он прошел в соседние подразделения и осмотрел полковые и дивизионные пушки, зенитные пулеметы и противотанковые орудия, тяжелые полковые минометы, противопехотные и противотанковые мины, издали оглядел рацию, гусеничные тягачи…
Это было огромное и богатое хозяйство одной лишь стрелковой дивизии, и Вавилов сказал своему соседу по нарам Зайченкову:
— Я по старой армии помню — такого оружия никогда в России не было… Это ж тысячи заводов нужны!
— А если бы царь купил его, все равно никто бы им не овладел. Тогда мужик только и знал: запрячь лошадку, распрячь лошадку. А теперь в армию идет народ технический: трактористы да мотористы, слесаря, шоферы… Вот Усуров наш: был шофером в Средней Азии, пришел в армию — и сразу стал водителем на гусеничном тягаче.
— Чего же он с нами в пехоте? — спросил Вавилов.
— Это уж частность,— ответил Зайченков,— он сменял разика два керосин на вино у населения, и его комиссар полка в стрелковую роту перевел.
Вавилов, усмехнувшись, сказал: