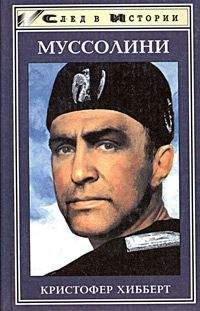Вавилов, усмехнувшись, сказал:
— Это частность порядочная.
Они уже выяснили, кто какого года, сколько у кого детей, и Зайченков, узнав, что Вавилов ездил в район в отделение банка по колхозным денежным делам, почувствовал к нему снисходительное дружелюбие старшего бухгалтера лесосклада к сельскому счетному работнику.
На первых занятиях он помогал Вавилову и даже выписал ему на бумажке названия частей автомата и гранаты.
В этих занятиях имелось нечто чрезвычайно важное — в них был огромный смысл, значение настолько важное, что люди даже не охватывали его. И командиры, и сотни старшин, сержантов и красноармейцев были людьми, прошедшими через долгие месяцы войны. Они испытали и поняли то, о чем нельзя прочесть в военном учебнике. Они знали бой не только опытом своего ума, но и опытом своих чувств, своих страстей.
В наставлениях и руководствах нельзя узнать того, что чувствует, думает, как ведет себя человек, прижавшийся лицом ко дну окопа, в то время, как в восьми вершках над его хрупкой, присыпанной землей головой скрежещет гусеница вражеского танка и в ноздри входит смешанный с сухим земным прахом горячий и маслянистый угарный дух отработанных газов. В наставлениях нельзя прочесть, что выражают глаза людей во время внезапной ночной тревоги, когда слышны взрывы гранат, очереди автоматов и в ночное небо поднимаются немецкие сигнальные ракеты.
Этот опыт и эти знания и касаются сотен и тысяч вещей — это знание противника, его оружия, знание войны на рассвете, в тумане, днем, на закате, в лесу, на дороге, в степи, в деревне, на берегу реки, это знание звуков и шорохов войны и, что особенно значительно и важно,— познание себя, своей силы, своей стойкости, выносливости, опыта, хитрости.
Новое пополнение в полевых учениях, ночных тревогах, в жестокой и страшной обкатке танками предметно, объемно впитывало и усваивало этот опыт.
Командир дивизии и командиры рот учили не школьников, которым предстоит покинуть стены школы и вернуться в мирный дом,— они учили солдат, с которыми вместе предстояло драться, они учили одному — войне.
И эта наука происходила десятками, а может быть, сотнями способов. Эту науку новое пополнение воспринимало в интонациях боевых команд, в походке, в жестах, в движениях, в выражении глаз командиров и обстрелянных боевых красноармейцев. Эта наука была в ночных рассказах Рысьева, в его насмешливых словах: «Фриц знаешь как любит?» Эта наука была и в самоуверенных окриках Ковалева: «Беги, беги вперед, не падай, тут он тебя не достанет… Зачем ты ложишься, так от миномета не спрячешься… Что ты выставился, логом беги, эта долинка минометом простреливается… Где ты машину оставил, хочешь, чтобы тебя авиация раздолбала?»
Эта наука была и в балагурстве Резчикова, в его рассказах, как кто кого перехитрил, в его веселом панибратстве с войной, в его чувстве насмешки и презрения к противнику, которое так важно солдату и которого не было у солдат летом 1941 года.
В час начала войны с фашистской Германией всюду — в больших и малых городах, на заводах, в деревнях, на реках и морях — люди поняли: пришло время тяжелых и горьких трудов, потому что в народе немцев считали сильным, воинственным народом, а Германию — сильной и богатой страной.
Война с французами не имела живых воспоминателей, она осталась в книгах, война с немцами жила не в книгах, а в живой памяти, в горьком опыте народа.
Весь народ сразу понял, что война с немцами будет великой войной, что принесет она большую кровь и большие слезы.
Когда летом 1941 года гитлеровцы напали на Россию, Вавилов сказал жене:
— Гитлер хочет забрать всю нашу землю, он весь земляной шар для себя пахать хочет.
Вавилов называл землю не земным, а земляным шаром, потому что вся земля была для него полем, которое народу надлежит вспахать и засеять.
На советскую народную землю, на крестьян и рабочих пошел войной Гитлер.
Дивизия, пока шло учение и пополнение, стояла за городом, и все время приходилось копать землянки, прокладывать дороги, рубить лес, тесать бревна.
Во время работы забывалась война, и Вавилов расспрашивал людей о довоенной мирной жизни: «Ну как земля у вас, как родит пшеница? Как насчет засухи? А просо вы сеете? Картошки хватает?» Много пришлось видеть ему народа, бежавшего от немцев: стариков, девушек, перегонявших скот на восток, трактористов, вывозивших имущество колхозов с Украины и Белоруссии. Попадались люди, бывшие под немцем и сумевшие уйти к своим через линию фронта, их он особенно выпытывал о том, как живут на оккупированной территории.
Он сразу понял нехитрый фашистский бандитский прием в деревне: из машин ввозили немцы только молотилки, из товаров — камешки для зажигалок: на камешки Гитлер хотел обменять всю русскую землю; Вавилов понял, к чему приводил фашистский порядок — пятихатки, десятихатки, объединенные нагайкой гебитскомиссара. Дело было не в желании немцев вспахать весь «земляной» шар, дело было простое — обмолотить чужую пшеницу.
Вначале все подмечавший ротный народ посмеивался над Вавиловым.
— Гляди,— говорили красноармейцы,— наш колхозный активист опять мужика задержал, опрос снимает.
— Эй, Вавилов,— кричали ему,— тут бабы орловские, может, проведешь среди них беседу?
Но вскоре увидели, что смеяться нечему: Вавилов расспрашивал людей о самом главном и важном, от чего зависела жизнь.
В роте стали дружно оглядываться на Вавилова после двух случаев. Однажды, когда пришел приказ передвинуться поближе к фронту, Усуров потребовал с погоревшей старухи литр самогона за то, что пустит ее в блиндаж и обошьет его досками. «А не дашь,— сказал он,— сам его срою и доски попалю». Старуха самогона не имела и отдала Усурову после того, как он выполнил условленную работу, полушерстяную шаль.
К случаю этому отнеслись неодобрительно, и когда Усуров смеялся, показывая шаль, все хмурились и молчали. Тогда Вавилов подошел к Усурову и сказал негромко, голосом, который сразу заставляет примолкнуть и оглянуться каждого, кто слышит такой голос:
— Отдай, сволочь, женщине ее вещь.
Все, кто слышал этот разговор, увидя, что Вавилов схватил одной рукой шаль, а другую, сжав в огромный кулак, поднес к лицу Усурова, ожидали неминуемой драки. Скандальный нрав и сила Усурова были известны.
Но Усуров внезапно выпустил из рук шаль и сказал:
— Чего, ну тебя к черту, снеси ей, на, подумаешь!
Вавилов бросил шаль на землю и сказал:
— Сам снесешь, я, что ли, брал.
Старуха, ругавшая про себя Усурова идолом проклятым, «прицем», жалевшая, что хороших сразу немецкая пуля достигает, а таким паразитам от войны никакого урона, даже растерялась, когда Усуров вернул ей шаль.
А расстроенный и смущенный Усуров произнес перед товарищами, понимавшими его смущение, речь:
— Знаешь, как шофера в Средней Азии жили? Будь уверен — не терялись! Нужна мне ее шаль — тоже защитник нашелся! Я ведь не так взял, а за работу. Тоже цаца — платок старый! Три костюма имел, суконце такое, коверкот, будь здоров, в выходной наденешь галстук, плащ, полуботинки желтые — никто не скажет, что шофером на трехтонке; идешь в кино, в ресторан, сразу шашлык, полкило водки, пиво. Жил что надо. Нужен мне этот платок!
Второй случай, запомнившийся в роте, произошел при бомбежке эшелона на большой узловой станции. Эшелон стоял на запасных путях, ждал отправки. Налетели самолеты перед вечером и бомбили сильно и жестоко, полутонными, даже тонными бомбами, видимо, хотели разбить элеватор. Бомбежка началась внезапно, люди повалились на землю кто где стоял, многие даже не успели выскочить из вагонов. Десятки людей были убиты и покалечены, занялись пожары, потом стали рваться снаряды в стоявшем поодаль эшелоне с боеприпасами. В дыму, в грохоте, среди воплей паровозных гудков смерть казалась неминуемой. Даже лихой Рысьев стал бледен, стушевался. Едва отливала на несколько секунд волна бомбежки — люди перебегали, переползали с места на место, искали ямок и углублений в недоброй, лоснящейся маслом черной земле. И всем запомнился в эти страшные минуты Вавилов. Он сидел на земле у вагона и кричал:
— Чего мечетесь, поспокойнее надо, лежи, где лежишь!
А утрамбованная черная земля дрожала, трещала и рвалась, как гнилой ситец.
После бомбежки Рысьев с восхищением сказал Вавилову:
— Ну и крепок ты, отец!
Политрук Котлов сразу отличил Вавилова. Он подолгу разговаривал с Вавиловым, расспрашивал, все чаще давал ему поручения, вовлекал в беседы во время политзанятий, читок газет. Котлов был умен и увидел в Вавилове ту ясную, простую и душевную чистую силу, на которую до́лжно ему опираться в своей работе.
И незаметно для красноармейцев и более всего для самого Вавилова случилось так, что ко времени получения приказа о выходе из резерва на фронт именно он, Вавилов, и был тем человеком, вокруг которого сами собой завязались в роте внутренние духовные связи между людьми, связи, объединявшие молодых и пожилых, разбронированных и ветеранов — десантника Рысьева, бухгалтера Зайченкова и рябого Мулярчука, узбека Усманова и ярославца Резчикова.