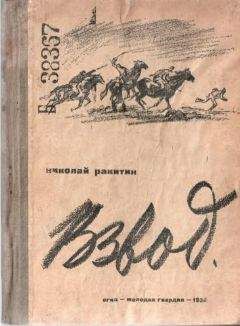— Гришин, завтра в разведку идет мой отделком в старом эскадроне, Василий Иванович, разреши мне поехать с ним.
Два раза Гришин отказывал Мамину, а на третий разрешил.
— Смотри, чтобы никто не знал, а то все запросятся, — сказал он Мамину.
Гришутка из разведки не вернулся.
Хороша жизнь. Всегда хороша. А весной, когда вишни в цвету, когда земля тянется к солнцу каждой травинкой, все живое кричит сотнями голосов, а воздух рвет грудь сладостью и легкостью, жизнь прекрасна!
Разъезд, в котором был Гришутка, вынырнул на опушку рощи.
В несколько секунд глаза искололи всю местность. Отделком Василий Иванович пробасил:
— Ну, хлопцы, сейчас прыжком до той вон железнодорожной насыпи. А там побачим. Вон дозор до нее дошел, машет. Галоп!
Разъезд рванулся.
Цокнули раз-другой подковы, и снова тишина. Снова разноголосый птичий крик в воздухе, солнце и распирающий грудь запах земли.
Разъезд у насыпи. Над насыпью глаза старшего. Старые, они окружены морщинами, прищурены. Рядом два голубых, широко раскрытых, вокруг них ни одной морщинки.
В старых — хитрость, настороженность, усталость, горечь, а в молодых — весна, радость, смех.
— Проскочили, черти! Вон тот хуторок справа… что-то не нравится он мне. Время рабочее, а около него ни души. Что-то не того. Ты, Гришутка, проскочи по балке к нему, прощупай и махни фуражкой. Мы тогда скачком к той горке. Давай!
Гришутка кубарем с насыпи — к коню.
Гришутке восемнадцать, Мышастому семь. У обоих каждый мускул играет, каждому — море по колено.
Гришутка проехал под мостиком по воде в балку и рысью к хуторку.
Вот и кустарничек. Тут справа должен быть хуторок. Оглянулся на насыпь.
«Как ловко прячется отделком Василь Иванович. На што знаю место, где сидит, и то не вижу. Ловко!»
В трехстах шагах от кустарника две избушки хуторка, да большие сараи.
«Здорово живут, что твои помещики!»
Посмотрел, сощурившись, как отделенный, сплюнул и карьером махнул к окну крайней избушки.
Подскочил и застучал. В окно выглянул хозяин.
В глазах, испуг и еще что-то — не разобрать, рябит от солнца.
— Выйди-ка, товарищ, на минуту!
Осторожно пискнула дверь. На пороге мужичок.
— Как у вас тут, дяденька, насчет панов? Не заглядывали? — пробасил Гришутка.
— Никого не видали. Мы одни тут, кому нужны? — отмахнулся вышедший.
— А вот следы коней, ковка-то военная, а? — врет Гришка, по-отделкомовски щуря глаза.
Вышедший как-то дрогнул, приземился.
— Ну, это ты, парень, от страху. Да ты што один делаешь? — глазами метнул он кругом.
— Да я вот еду на станцию. («Ох, чорт, ни одного названия не помню», — промелькнуло у Гришки).
— Так зайди, выпей молочка, устал, поди, — выдавливает тот.
— Нет, спасибо, дальше надо ехать, прощевайте покеда, — ответил Гришутка.
«Надо осмотреть за избами, да в амбарах. Чорт его знает, уж больно рожа-то сытая», — думает Гриша, поворачивая Мышастого за угол.
За домами пусто. На срубе колодца бадья с водой. Вода чистая, верно холодная. Мышастый потянулся к воде. Сразу пить захотелось.
— Стой ты! Дай хозяину. Старшинства не знаешь? Сейчас глотнем по разу, за амбарами посмотрим, да и дальше.
Гришутка наклонился с кони ж бадье, схватил ее обеими руками — не поднять, тяжела. С коня прыг — и прилип к краю бадьи губами.
По воде круги, в кругах голубое небо, сбоку губы коня.
Рванулся Мышастый. Не успел оторвать Гришуха губ от бадьи, обвили чьи-то руки. Оглянулся — стоят польские кавалеристы: трое, четверо, а из амбара выглядывают еще и еще.
Из избы вышел офицер, а с ни хозяин хутора, что-то говоря по-польски и указывая на Гришутку.
Страха нет, а обидно. Обидно до боли: «Что будет с нашими? Как передать?»
— Ты, сволочь, буденновец, сифилитик, откуда? — картавит офицер.
Молчит Гришка.
Что-то скомандовал офицер.
По спине саданули прикладом.
— От разъезда, наверное, ну? — придвинулся офицер, помахивая стэком.
«Скажу, — думает Гришка, — только бы отпустили, а там выскочу».
— Молчишь? — зашипел офицер, замахнувшись стеком.
— Нас, дяденька, пятеро, вон там в лесу, — показывает Гришка в противоположную сторону.
— Заговорил, — цедит офицер. — Садись на коня и махни своим из-за угла, чтобы ехали сюда. Смотри, сзади пуля!
В руках офицера блестит смерть. Из амбара выехало пятеро поляков на конях.
«Кони дрянь, — думает Гришутка. — Уйду от сволоты, как пить дать, уйду».
Сел на коня.
К углу пошли Гришутка на Мышастом, офицер и двое с винтовками пешком. Пятеро на конях прижались к избе.
Вот и угол.
— Дашь знак и назад. Поймаем тех — жив будешь. У нас послужишь, — картавит сзади офицер.
Вдали насыпь. Будто голова Василия Ивановича видна.
«Свои там! Каждый близкий, родной! А жить-то как хочется! Кругом такая красота… Дома, в Ставрополе, поди, сеют. А что говорил военком? «Гриша, ты комсомольцем стал, резерв нашей партии, будущий строитель коммунизма, надежда рабочего класса». Какой я стервец! Нет, умру, а не изменю! А может, выскочу еще?» — Оглянулся… Из-за угла глаза и дула.
Собрал Мышастого, будто потянулся к шапке, прижал ноги и рванулся к кустарнику. Выстрелов не слышал.
Сначала кольнуло и обожгло плечо, потом стегнуло по ноге, а затем все оборвалось. Последними мелькнули кустарник и — сбоку кверху — морда Мышастого с прижатыми ушами.
Но балке, под мостикам, по воде к разъезду за насыпью приволок Мышастый запутавшегося в стремени Гришутку.
Вместо головы у Гриши кровавый кочан капусты.
Подскочил Мышастый, упал, дернулся, попытался встать, поставил передние ноги, сел по-собачьи и медленно опрокинулся на бок.
К вечеру все части бригады собрались вместе. Командир разрешил бригаде как вынесшей на своих плечах главную тяжесть боя отдохнуть.
В этом же селе вечером хоронили Гришу Мамина.
Тяжело переживал взвод эту утрату.
«Зачем, зачем пустил его в разведку? Гриша, Гришутка, такой приветливый, всегда спокойный, отзывчивый…» — Гришин обвинял себя в смерти товарища.
Наскоро сколоченный гроб, свеже вырытая могила, сумрачные лица ребят и старых бойцов. Слова изнутри, неповторимые, острые, как шипы. Сжатые челюсти, залп и… холмик свежей земли.
Врезались в память последние слова комиссара.
— Ушел Мамин! Погиб, честно выполняя долг служения рабочему классу, пролетарской революции. Появилась брешь в рядах комсомола. Пусть воспитает комсомол тысячи таких, как Мамин, таких, как Гриша. Фабрики, заводы, шахты — весь рабочий класс дадут еще и еще таких же, как Мамин, своих сынов, готовых к защите дела отцов, дела пролетарской революции. На смерть Мамина, лучшего из нас, ответим большей сплоченностью, большим героизмом, ответим победой над врагом!
Взвод ответил на смерть Гриши передачей в комсомол шести ребят.
Бой вчера, бой сегодня утром.
Полки бригады полностью в расходе. Втянулись в тяжелый лесной бой. Не поскачешь, лихо сверкая клинком, не врежешься в гущу дрогнувшего противника. Пядь за пядью брала бригада лес. В одном мосте продвинется вперед, в другом отойдет назад.
Нагорный не успевал отдавать распоряжения. Бессонные ночи, полуголодовка, беспрестанная тревога утомили и этого железного человека.
— Гришин! — позвал он, оторвавшись от Карты. — Вот что. Остался у меня в резерве твой взвод. Все в расходе. Надо сейчас же разведать правый фланг противника. Давай пятерых лучших ребят.
Это уже не ординарческая служба. Не охрана штаба. Румянец залил лицо Гришина. Радость за свой взвод подняла волну гордости.
— Можно мне за старшего? — спросил он комбрига с дрожью в голосе.
— Нет. Ты можешь понадобиться здесь. Пошли твоего помощника. Как он?
— Парень что надо! Не подкачает! — не задумываясь, ответил Гришин.
— Давай его и остальных пятерых сюда.
Ребята собрались.
— Вот здесь мы, а тут — поляна. Карту знаете? Не забыли, как я объяснял вам?
За всех ответил Воробьев:
— Чего же забыть? Это лес, это горка, а тут деревня, вот это река и болото. Это…
Комбриг перебил:
— Хорошо, вижу, что помнишь. Надо проехать вот этой балкой, доехав до речки, свернуть в лесок, через него мимо сторожки в село. В селе узнаешь, есть противник или нет. Мне донеси из леса и из села. В селе оставаться до сумерек, а потом вернуться сюда. Понятно все?
Хором ответили шестеро:
— Понятно!
Махнул рукой комбриг:
— Жарьте, ребята! Смотрите только осторожней!
Бегом бросились шестеро в лошадям, махом прыгнули в седла и рысью поехали по балке.
Воробьев выслал вперед на сотню шагов двух ребят.