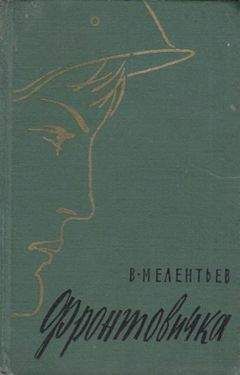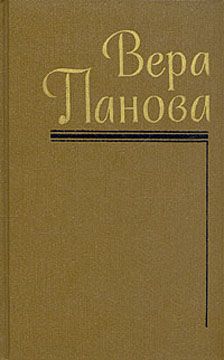Голованов решил действовать смело. Он попросил девушку зайти к нему, в его отдельную палату. Она взглянула на него, и в ее больших серо-зеленых холодных глазах полковник не увидел ничего, кроме спокойного любопытства. Казалось, она знает что-то такое, что ставит ее выше полковника, делает ее старше и опытней пожилого человека.
«Коллекционерка, что ли?..» — почему-то смущенно подумал Голованов. Но отступать он не любил и поэтому повторил приглашение.
Девушка опять посмотрела на него, и Голованов почувствовал, что она понимает, зачем он приглашает ее в свою палату, и ему стало не по себе, словно он не только решил, но уже начал что-то красть. Но девушка сказала очень просто:
— Хорошо, я зайду.
И эта холодная простота, без примеси кокетства или испуга, тоже озадачила Голованова, но он постарался быть бодрым. Тем лучше, что она все понимает… Меньше будет хлопот.
Она зашла в его палату такой ровной, четкой походкой, что гитара в ее руках слегка гудела. Прошла к столу, села без приглашения и спросила:
— Что же вам спеть?
Полковник решил быть галантным, потому что ощущение собственной нечистоплотности нужно было чем-то перебить. Андрей Петрович открыл бутылку вина, пододвинул яблоки и кусок госпитального пирога. Девушка не отказалась ни от вина, ни от яблока. Голованов вздохнул свободней: «Да, конечно, это просто коллекционерка мужских сердец».
И эта мысль окончательно вытеснила ощущение греховности. Забыв, что он в госпитале, что на нем застиранный госпитальный костюм, Голованов опять почувствовал себя красивым, сильным и обаятельным, каким знал себя всю жизнь. Он присел на кровать, положил ногу на ногу, и ему показалось, что на начищенных сапогах вспыхивают яркие блики, оттеняя змейку канта. Он выпрямил корпус так, чтобы свет мог поиграть и на примерещившихся блестящих пуговицах, на ремне, на орденах и медалях.
Девушка посмотрела на его госпитальный костюм, равнодушно тронула струны и опять спросила:
— Так что же вам спеть?
Он рассмеялся мягко, покровительственно, точно устанавливая незримую дистанцию интимной снисходительности, сократить которую он приглашал свою гостью. Весело блеснув глазами, он сказал:
— Вы очень удачно решили петь для раненых. И вы знаете, им это очень нравится.
— Да, я это знаю, — просто ответила девушка. — Поэтому я и пою.
— А кто же вас надоумил, если это не секрет? Может быть, это комсомольское поручение?
— Нет, это не секрет, — затаенно, краешками ярких губ усмехнулась девушка. — Это, скорее, пионерское задание.
— Не понимаю, — развел руками Голованов и качнул ногой.
Девушка покосилась на его госпитальный шлепанец, держащийся на самых кончиках пальцев, и уже совсем весело, доверительно сказала:
— Видите ли, у меня есть сестра Наташка. Она член совета дружины. Вот она-то и решила, что я ничем не помогаю фронту. А это, по ее мнению, бесчестно. Она заставила меня прийти вместе с пионерами в госпиталь и выступить в концерте. Меня пригласили прийти еще раз. А я разохотилась — и хожу теперь очень часто.
Голованов заметил, что она так и не сказала, комсомолка она или нет, и решил, что в данной ситуации это неважно: она и сама, видимо, понимает это.
Он очень мило пошутил над такой великовозрастной пионеркой и сказал, что ей, вероятно, и сейчас был бы к лицу пионерский галстук. Неудачно скаламбурив насчет красного галстука и красного вина, он предложил выпить еще, но девушка отказалась. Он поднялся и прошелся по палате, как ему показалось, четкими, упругими шагами, ощущая, как в нем нарастает бодрящая смелая сила. Она делала тело гибким, фигуру подтянутой. Ему нравилось это, и он все ходил по палате, круто поворачиваясь в углах и съезжая пятками с госпитальных шлепанцев. Он видел, что девушка присматривается к нему и ее холодные серо-зеленые глаза теплеют, поблескивают. Он понял это по-своему.
Голованов подошел к девушке сзади и легонько обнял ее за плечи. Она подалась, но в ней не дрогнул ни один мускул. Полковник сжал ее сильней и, слегка задыхаясь, приник своей щекой к ее — прохладной и нежной. Он очень любил подходить к женщинам сзади, не по словам, не по взгляду, а по дыханию, по движению тела отгадывая их решимость любить. В этом были своя прелесть и свое удобство.
Девушка не шевельнулась. Похоже, что это была покорность. Но когда он припал губами к ее теплой, слабо пульсирующей шее, пьянея и смелея, он услышал ровный, холодный голос:
— Скажите, полковник, вы знаете, что таких, как вы, называют сорокотами?
Опьянение ее телом еще не прошло, и Голованов не сразу понял вопрос. А когда понял, то вначале не поверил, что его могла задать эта чересчур холодная и, по всему видно, многоопытная девушка. Он оторвался от ее шеи и зачем-то посмотрел на дверь. Неудобное положение, в котором он стоял, вызвало ноющую боль в ране, и Голованов рассердился.
Он решительно выпрямился и, выйдя из-за ее спины, сел напротив, на койке, забросив ногу на ногу. Шлепанец ритмично закачался.
— По-моему, вы забываетесь! — строго сказал он.
Он опять выпрямил корпус, точно ощущая на себе всю официальную суровость знаков различия, ремней и наград. Девушка посмотрела на шлепанец, поднялась и, положив свободную руку на гитарные струны, наклонилась, всматриваясь в него своими нестерпимо холодными глазами, и резко, как команду, бросила:
— Подберите шлепанцы!
И сейчас же ушла четкой, ровной походкой. Прижатые струны гитары не гудели.
Андрей Петрович вначале опешил, потом возмутился и, вероятно, догнал бы эту дерзкую девчонку, но чувство собственной греховности, которое, казалось, он победил, вдруг окрепло, и он понял, что был, прежде всего, смешон. Смешон уверенностью в своей неотразимости, смешон в каждом своем наигранном, взятом напрокат из прошлого слове, смешон во всех своих жестах. Он вспомнил, как он пыжился, сидя на кровати, положив ногу на ногу, как он подтягивался, когда ходил по палате. Он не понимал, что живет прошлым, не видел, что на нем стоптанные шлепанцы без задников, плохо проглаженные белые госпитальные брюки со стандартно удлиненным мешковатым гульфиком, белая, из грубой рогожки госпитальная куртка-пиджак, из противно кокетливого кармашка которой торчит бурая, тусклая расческа. Он забыл о своей седине, о своих морщинах, о нездоровой бледности когда-то загорелого лица. Он жил прошлым и не заметил настоящего.
Голованов рывком схватил зеркало, подвинулся к окну и понял, что он просто стар. И это окончательно сломило его. Он повалился на кровать и долго лежал без движения, почти без мыслей, страдая оттого, что он был смешон, и оттого, что он незаметно постарел. Он опять взял зеркало, посмотрел на свои еще бледные, плотно и обиженно сжатые губы и вдруг ощутил на них трепет ее шеи — нежный, волнующий и нестерпимо желанный сейчас, когда ее не было и не могло быть. Он опять повалился на кровать и скрипнул зубами.
Осень выдалась красной.
Красными были восходы и закаты, красными казались бульвары, клумбы и цветники. Были в этой красноте и багровости и еще могучие желтые и зеленые тона, но даже в желтизне, даже в зелени поздних листьев и стеблей просвечивали оранжевый и розоватый оттенки.
Сливаясь с багрянцем, киноварью и ржавостью увядших трав, они окрашивали окружающее красноватым светом, который так хорошо сливался с тревожно-огненными плакатами и лозунгами, главной темой которых был приказ: «Убей врага!» И только высоко, под самым розовым небом, освещенные последними лучами зашедшего солнца серебряными спутниками красной земли поблескивали капельки аэростатов заграждения.
Большинство прохожих на улицах были в военной форме. Они словно не замечали тревожных и пышных красок окружающего, не видели странно пустынных московских улиц, не понимали всей тяжести нависшего над страной несчастья. Военные шли бодро, глядели смело и независимо, даже как будто вызывающе, точно отвечая на немой упрек прохожих. Особенно смелыми, даже дерзкими казались девушки и женщины в форме, словно они добровольно приняли на себя ответственность за все неудачи и твердо знали, что исправят положение.
Валя смотрела на них и завидовала. А чтобы не выдать этой зависти, не показаться смешной, она держалась, как когда-то в строю, подчеркнуто прямо и ногу ставила твердо. Поэтому каблучки ее потрепанных парусиновых туфелек стучали резко, громко, а гитара отзывалась легким, сдержанным гудением.
Когда Валя вышла из госпиталя, ею овладел злой и торжествующий смех: сорокалетнего щеголя — «сорокота» — она отбрила удачно. Будет помнить и в другой раз не станет нахально приставать к девушкам. Но смешливое настроение пропало. Все-таки ей ни в чем не везет. Ведь когда этот красивый седеющий полковник с такими уверенными и сдержанными манерами, с таким вдумчивым и в то же время ярким взглядом темных, чуть навыкате глаз обратился к ней, она даже обрадовалась. Она не раз замечала полковника в коридоре госпиталя. Он почему-то казался ей знакомым, чем-то напоминал полузабытого отца. И у нее невольно зародилось что-то вроде дочернего уважения к нему. Она шла к нему с той хорошей тревогой, с какой ходят проведывать заболевшего учителя или знаменитого человека. Ей хотелось поговорить с ним, как с человеком, который сам воевал и знает причины, породившие трагедии у Харькова, на Дону и в иных местах.