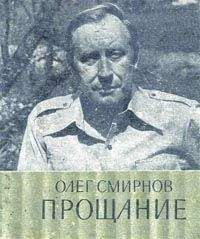— Чистосердечное признание и раскаяние смягчают вину, так же ж?
— Не так же ж, — сказал Лобода, с ненавистью глядя в переносицу Крукавца.
Крукавец тоже посмотрел ему в переносицу:
— По-вашему, мне вовсе не раскаиваться?
— Ты делаешь вид, что раскаиваешься. Когда прижали к ногтю, как вошь!
— Не стоит оскорблять, — сказал Крукавец, и Лобода запнулся на полуслове. Наглец! Но держит себя приличней Мельника, не так наложил в штаны. Однако обоим им крышка!
— Меня немцы заставили совершать эти акции. Я простой исполнитель. Не исполнил бы — самого б ликвидировали.
«Врешь, гнида! Добровольно в услужение пошел, националистическая вошь!» — думал Лобода и молчал: что толку распсиховаться перед этим оуновцем, полицаем, садистом? Этой публике потребно другое — пуля. Такой язык они понимают. Потому, наверное, он, начальник особого отдела Павло Лобода, в иночасье тяготится прямыми служебными обязанностями и лезет в драчку, в бой, где наши и враги, где ясней и понятней, чем на всяких допросах. Хотя прямую свою службу он ставит высоко. Сложная очень, ответственная, справляется он с ней еще не полностью. Но кое-какой прошлый багаж пригодился: пограничник — тот же чекист. Да и нового багажа набирает на практике. Вот из ней, из практики: Игорю Петровичу Скворцову про убийство женщин, про Степана Крукавца, обязан доложить он, Павло Лобода. Можно было б попросить комиссара Емельянова, но Лобода не приучен перекладывать с себя на других. Выложить не постороннему тебе человеку, что про близких его в точности, без догадок и слухов, на основании показаний убийцы и соучастника известно: застрелены и закопаны на северо-западной опушке Ведьминого леса… Но что же делать? Еще тогда, у Тышкевичей, он услыхал от Стефана, что Ира, Женя и Клара убиты националистами, и сказал о том Скворцову. Ведь лейтенант сам учил: говорите правду! Лобода и сказал. И теперь скажет. Пускай и нелегко это Лободе. Еще тяжельше будет лейтенанту Скворцову.
… Накануне поездки в Цуцнев Крукавец целую ночь пил, здравицы не умолкали — главным образом в честь вновь назначенного начальника районной полиции Степана Крукавца. Он чокался, обнимался, слюнявился с любым, кто возжелает. А возжелали все, потому как были под сапогом у него, даже Антон Мельник. Крукавец сопротивлялся, но немцы не посчитались с ним, назначили Антона к нему заместителем, выслужился-таки Мельник. Подточенными для коронок резцами Крукавец рвал мясо, глотал, едва прожевывая, и не насыщался. У него случается: выпьет — и нет аппетита, выпьет— и разыгрывается волчий аппетит, сегодня так. Гуляли у одного из тутошних полицаев, своя была компания: вчера оуновцы — сегодня полицаи. Да от того, что сделались полицаями, они не перестали быть националистами, хайль великое украинское националистическое движение! В хате дым стоял коромыслом: пили, пели, орали, хохотали, тискали хозяйскую дочь и ее подружку, за которой сбегала сама хозяйка; хозяин равнодушно скалился: девка перезрелая, в годах, уже погуливает и ее не убудет, а замуж — так побачим, будет приданое — будет и жених, в войну приданое можно сколотить, на то он и в полиции. Но дочка ластилась к одному Крукавцу, и тот милостиво разрешал это. Минутами и ему казалось, что он чего-то хочет от дебелой, раскормленной девицы. Так с ним происходило, когда бывал уже не трезв, но еще и не пьян. Тогда казалось: бабы ему нужны, а не только власть и богатство. Но постепенно он напивался, порой, до беспамятства, и никто ему не нужен был в постели. А трезвого бабы его перестали волновать вовсе. Волновало, и все сладостней, другое — власть и богатство, причем второе вытекало из первого.
Крукавец пьянел, как по ступенькам спускался: стакан — шаг вниз, еще стакан — еще шаг вниз. Наверху, где трезвость, было светло и холодно, тоскливо и опасно, внизу — пьяная мглистость и полумрак, и тепло тебе, и свободно, и весело. Под градусом — и все ты можешь, и море по колено, в крайнем разе — до пупа. Крукавец чокнулся и облобызался с хозяином и хозяйкой, выпил. Хозяева дочку подсовывают начальнику полиции. То так: начальников надо ублажать. Дочку, ее Ганной кликают, Степану сунут в постель. Хотя бабы ему без пользы. С Агнешкой то же самое… В задумчивости или в осоловелости он размеренно работал челюстями. Тосты в его честь отзвучали, никто никого не слушал, кто-то уже уронил чуприну в тарелку с растаявшим холодцом, кого-то выворачивало на крыльце. Опьянение уравняло всех, и лишь Ганна по-прежнему выделяла Крукавца, лезла ему на колени. Он легонько, не обидно отстранял ее: мешала думать. Эх, какая жажда разбогатеть, в груди печет! Да кто из сидящих за этим столом не жаждет? За горсть мелких монет живьем закопают на гумне! Деньги не пахнут, так на всех языках говорят. Деньги — в смысле богатство. Бумажка и есть бумажка, золото и есть золото — часы, кольца, броши, запонки, коронки. Коронки? Поставит он себе, поставит, во всю пасть! Он станет богачом! Он, скромный учитель. Правильней сказать: недоучка. В учителя его пристроили лишь по причине того, что вступил в ОУН. Хай живе великое украинское националистическое движение, хай живе Степан Бандера и Степан Крукавец!
Очнулся Крукавец от жары, оттого, что кто-то мешал повернуться на бок, лечь пошире, поудобней. Он закряхтел, выругался. Щели в ставнях — как чьи-то сощуренные глаза подсматривали — пропускали утренний свет. Кто рядом? Ганна, одетая. И он одетый. Опохмелка растянулась часа на два, и в Цуцнев выехали с опозданием. И потому нахлестывали лошадей. Вопили песни, охрипнув — замолкли. Клевали носами, клевали — и проглядели партизан, раззявы. Но это он потом подумал с гневом: «Раззявы!»; а когда залпом стебануло из-за придорожных валунов, он подумал почему-то, что стреляют свои, полицаи или немцы, по ошибке. И голосом, который сделался сиплым, как у Мельника, закричал:
— Хальт! Стой! Не стреляй! Мы полиция!
Но сколько он ни кричал, по ним стреляли, пока подводы не остановились. И только тут понял: стреляют партизаны. Спрыгнул с подводы, чтобы бежать к лесочку, и вдруг перед ним — человек с автоматом:
— Ни с места! Бросай оружие! Руки вверх!
Он уронил парабеллум, который не помнил, когда вытащил из кобуры; пистолет упал, стукнувшись о сапог. Он поднял руки и увидел: и Мельник у подводы со вскинутыми руками, по одной руке стекает кровь. И это — как внезапное облегчение: Мельник ранен, а он нет. Из-за спины Мельника появились вооруженные бородатые люди с красными ленточками на шапках; Мельник что-то забормотал. Прикладами его подогнали к Крукавцу, рявкнули:
— Шагом марш, оба!
«Куда нас? На расстрел?» — подумал Крукавец, и словно пинком отбросил эту мысль, как отбрасывал кошек или собак. Их провели мимо валунов, из-за которых по ним стреляли, к партизанским подводам в кустарнике, обрывком веревки стянули за спиной руки, скомандовали:
— Садись!
Ну вот: если б расстреливать удумали, зачем же еще везти куда-то? Тут бы и прикончили. Он жив и останется жив! Прочь от этого прокаженного места с обомшелыми валунами, с перебитыми лошадьми и полицаями! Проспали засаду, раззявы! Побили их, так им и надо. Но почему должен страдать он, Степан Крукавец? Он хотел быть начальником районной полиции, он так мечтал об этом, старался, выслуживался. И вот через этих раззяв рушится? Что будет теперь? Попал в крысоловку. Сегодня не расстреляли — завтра расстреляют. Стоит им докопаться до кое-каких акций. Не сознавайся ни в чем. И тикай. Соскакивай с подводы — и к лесу. Крукавец представил: бежит со связанными сзади руками — далеко ль убежишь так, — а партизаны вскидывают автоматы и винтовки. Его передернуло: пули — будто впились в спину, как они впивались в спины тем женщинам, трем советкам. Не было этого! Подводы отдалялись от валунов, и Крукавцу казалось: он отдаляется от своего прошлого, скорей бы и подальше! Словно это отдаляло одновременно от кары. Но когда, уставшего, продрогшего, с затекшими руками и ногами, его привезли в дремучий бор и ввели в землянку, где за столиком сидел молодой черночубый человек в накинутой на плечи меховой безрукавке, — он понял: от этого прошлого и от кары ему не уйти. Человек в меховой безрукавке сказал сквозь зубы:
— Полиция? Ну, давай знакомиться, полиция…
И посмотрел немигающими ледяными глазами, от его взгляда Крукавцу стало морознее, чем было на подводе на ветру и холоде. Он хотел сказать «здравствуйте» или «день добрый» и не сказал: забыл вдруг, что произносят в таких случаях. Крукавец сто раз потом сжимался под этим взглядом. Его допрашивали и другие партизанские начальники, но подобного взгляда не было ни у кого. Этот смотрел на него не мигая, постукивая ногтями по столику. Это постукивание раскатывалось, как свинцовая дробь, которую всадят выстрелами в Крукавца, в Степана. Он назвался вымышленным именем, отпирался от всего, путал, заметал следы. Остальные допрашивавшие иногда срывались, этот не выходил из себя, и он был самый опасный для Степана Крукавца: контрразведчик? Еще был опасен Антон Мельник, которого допрашивали отдельно. Как ведет себя сипатый, не понес ли на Крукавца? Спасая свою шкуру?