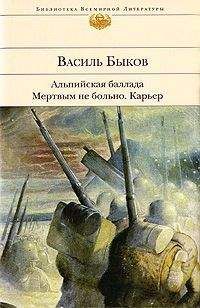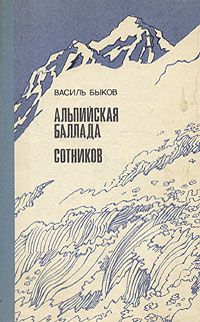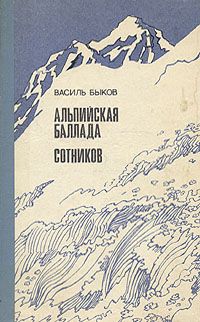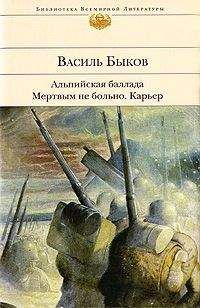он долго бежал, пока не забрался в болото. Деваться было некуда; и он влез в кочковатую, с окнами
стоячей воды трясину, из которой уже никуда не мог выбраться. Там он понял, что если не утонет, то
может считать себя спасенным. И он затаился, до подбородка погрузившись в воду и держась за
тоненькую, с мизинец, лозовую ветку, все время напряженно соображая: выдержит она или нет. Если бы
ветка сломалась, он бы уже не удержался, силы у него не осталось. Но ветка не позволила ему скрыться
с головой в прорве, мало-помалу он отдышался и, как только вдали затихла стрельба, с трудом
выбрался на сухое.
Была уже ночь, он отыскал в небе Полярную и, почти не веря в свое спасение, побрел на восток.
9
Сотников неподвижно лежал на скамье за столом, наверно уснул, а Рыбак пересел поближе к окну и
из-за косяка стал наблюдать за тропинкой. Он немного перебил голод картошкой, делать тут ему было
нечего, но и уйти было нельзя - приходилось ждать. А кому не известно, что ждать и догонять хуже всего.
Наверно, по этой или еще по какой-либо причине в нем начала расти досада, даже злость, хотя
злиться вроде и не было на кого. Разве на Сотникова, которого он не мог оставить на этих детей. Хозяйка
не возвращалась, послать за ней он не решался: как в таком деле полагаться на ребятенка?
И он сидел у окна, неизвестно чего ожидая, прислушиваясь к случайным звукам извне. По ту сторону
перегородки повставали дети, слышалась их приглушенная возня в кровати - иногда на проходе
отодвигалась дерюжка, и в щели появлялось мурзатое, любопытствующее личико. Но оно тут же
исчезало. Девочка там крикливо командовала, никого не выпуская из-за перегородки.
Рыбак до мельчайших подробностей изучил стежку за окном, остатки разломанной изгороди и край
неогороженного кладбища с колючим кустарником по меже. Тряпка, затыкавшая разбитое стекло,
неплохо скрывала его в окне. На сыром гниловатом подоконнике стояло несколько грязных пузырьков от
лекарств, валялись клубок льняных ниток и тряпичная кукла, глаза и рот которой были искусно
нарисованы чернилами. Напротив за столом беспокойно дышал во сне Сотников, которого надо было
устроить надежнее, но для того нужна была хозяйка. Томясь и нервничая в неопределенном своем
ожидании, Рыбак почти с неприязнью слушал нездоровое дыхание товарища, все больше сокрушаясь
оттого, что им так не повезло сегодня. И все из-за Сотникова. Рыбак был незлой человек, но, сам
обладая неплохим здоровьем, относился к больным без излишнего сочувствия, не понимая иногда, как
это возможно простудиться, занемочь, расхвораться. «Действительно, - думал он, - заболеть на войне -
самое нелепое, что можно и придумать».
За время продолжительной службы в армии в нем появилось несколько пренебрежительное чувство к
слабым, болезненным, разного рода неудачникам, которые по тем или другим причинам чего-то не
могли, не умели. Он-то старался уметь и мочь все. Правда, до войны кое в чем было трудновато,
особенно когда дело касалось грамотности, образования - он не любил книжной науки, для которой
нужны были терпение и усидчивость. Рыбаку больше по душе было живое, реальное дело со всеми его
хлопотами, трудностями и неувязками. Наверно, поэтому он три года прослужил старшиной роты -
характером его бог не обделил, энергии также хватало. На войне Рыбаку в некотором смысле оказалось
даже легко, по крайней мере, просто: цель борьбы была очевидной, а над прочими обстоятельствами он
не очень раздумывал. В их партизанской жизни приходилось очень не сладко, но все-таки легче, чем
прошлым летом на фронте, и Рыбак был доволен. В общем ему пока что везло, наибольшие беды его
129
обходили, он понял, что главное в их тактике - не растеряться, не прозевать, вовремя принять решение.
Наверное, смысл партизанской борьбы заключался в том, чтобы, отстаивая собственную жизнь, чинить
вред врагу, и тут он чувствовал себя полноценным партизанским бойцом.
- Мамка, мамка идет! - вдруг радостно вскричала детвора за перегородкой.
Рыбак метнул взглядом в окно и увидел на стежке женщину, которая мелкими шажками торопливо
семенила к избе. Длинноватая темная юбка, замызганный полушубок и платок, толсто накрученный на
голову, свидетельствовали не о первой молодости хозяйки, хотя, по-видимому, она еще не была и
старой. Следуя за ней взглядом, Рыбак осторожно подвинулся за окном. От детского крика встрепенулся
за столом Сотников, но, увидев Рыбака поблизости, опять вытянулся на скамье.
Когда в сенях стукнула щеколда, Рыбак отодвинулся на конец скамьи и постарался принять
спокойный, вполне добропорядочный вид. Надо было как можно приветливее встретить хозяйку, не
напугать и не обидеть ее: с ней предстояло договориться о Сотникове.
Она еще не открыла двери, как из-за перегородки высыпала детвора - две девочки, приподняв
занавеску, остались на выходе, а лет пяти мальчик, босой, в рваных, на шлейках штанишках, бросился к
порогу навстречу:
- Мамка, мамка, а у нас палтизаны!
Войдя, она сразу подалась вперед, чтобы подхватить мальчика на руки, но вдруг выпрямилась и с
недоуменным испугом взглянула на незнакомого ей человека.
- Здравствуйте, хозяйка, - со всей доброжелательностью, на которую он был способен сейчас, сказал
Рыбак.
Но хозяйка уже согнала с усталого лица удивление, мельком взглянула на стол с пустой миской, и что-
то на ее лице передернулось.
- Здравствуйте, - холодно ответила она, отстраняя от себя ребенка. - Сидите, значит?
- Да вот как видите. Вас ждем.
- Это какая же у вас ко мне надобность?
Нет, тут не заладилось что-то, женщина явно не хотела настраиваться на тот тон, который ей
предлагал Рыбак, - что-то суровое, злое и сварливое послышалось в ее голосе.
Он пока смолчал, а она тем временем расстегнула старенький латаный тулупчик, стащила с головы
платок. Рыбак пристально вглядывался в нее - свалянные, нечесаные волосы, запыленные мочки ушей,
утомленное, какое-то серое, не очень еще и пожилое лицо с сетью ранних морщин возле рта
красноречиво свидетельствовали о непреходящей горечи ее трудовой жизни.
- Какая еще надобность? - Она бросила платок на шест возле печи, опять повела взглядом на конец
стола с миской. - Хлеба? Сала? Или, может, яиц на яичницу захотелось?
- Мы не немцы, - сдержанно сказал Рыбак.
- А кто же вы? Может, красные армейцы? Так красные армейцы на фронте воюют, а вы только по
зауглам шастаете. Да еще подавай вам бульбочки, огурчиков... Гэлька, возьми Леника! - крикнула она
старшей, а сама, не раздеваясь, на скорую руку начала прибирать возле печи: горшки - на загнетку,
ведро - к порогу, веник - в угол.
За столом начал настойчиво кашлять Сотников, она покосилась на него, нахмурилась, но
промолчала; продолжая убирать, задернула грязную занавеску над лазом в подпечье. Рыбак поднялся,
сознавая, что допустил ошибку: видимо, обращаться с ней надо было построже, с этой сварливой,
раздраженной бабой.
- Напрасно, тетка. Мы к вам по-хорошему, а вы ругаться.
- Я разве ругаюсь? Если бы я ругалась, вашей бы и ноги здесь не было. Цыц вы, холеры! Вас еще не
хватало! - прикрикнула она на детей. - Гэля, возьми Леника, сказала! Леник, побью!
- А я, мамка, палтизапов смотлеть хочу.
- Я тебе посмотрю! - с угрозой топнула она к перегородке, и дети исчезли. - Партизаны!
Рыбак внимательно наблюдал за ней, размышляя: отчего бы ей быть такой злой, этой Дёмчихе? В
голове его возникали самые различные на этот счет предположения: жена полицая, какая-нибудь родня
здешнего старосты или, может, чем-либо обиженная при Советской власти? Но, поразмыслив, он
отбросил все эти домыслы, явно не вязавшиеся с нищенским видом этой женщины.