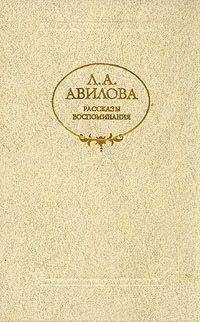Так было заведено, что Артамон являлся в усадьбу ранней весной, просил доложить о нем барыне, а барыня звала его к себе в кабинет.
— А! Пришел! — говорила она, когда Артамон, почтительно вытянувшись, останавливался в дверях.
— Точно так-с, пришел, — мрачно, будто нехотя, отвечал он.
— Что-то будто рановато?
— Никак нет-с. И в прошлом году в ту же пору.
— Да ведь я говорила тебе в прошлом году, чтобы ты больше не приходил!
Артамон мрачно молчал.
— Вспомни, был ли хоть день прошедшее лето, чтобы ты не напился пьян?
— Помилуйте! — говорил Артамон.
— Чего мне тебя миловать! Если я тебя помилую, ты опять будешь пить.
— Нет, уж теперь будьте покойны!
— Ну и врешь. Знаю, что врешь.
Некоторое время тянулось молчание. Артамон неподвижно стоял в дверях, а барыня сидела у стола и, хмурясь, думала.
— Прикажите остаться? — мрачно просил Артамон.
Барыня только вздыхала и пожимала плечами.
— Говорила я тебе не приходить, — продолжая казаться злопамятной, повторяла она. — Слово дала, что не возьму тебя больше. Так ты мне надоел, Артамон, так надоел…
— Извольте выслушать: докладываю вам… Господи! Да неужели я?
Артамон точно чувствовал приближение конца своей пытки, почему-то ободрялся, оживлялся, и его мрачное лицо постепенно становилось яснее, мягче, привлекательнее.
— Нужно ожидать, молодые господа опять приедут? — спрашивал он.
— Как же! Жду их на лето, жду! — совсем дружелюбно отвечала барыня. — Я к ним зимой в Петербург ездила. Навещала.
— Ездили? — не то удивляясь, не то радуясь, повторял Артамон. — Деточки-то… здоровы? Ничего?
— Выросли, и не узнаешь! Большие стали внуки-то мои.
— Большие?
— Большие! У Костеньки вот все ножка…
— Не зажила? — горестно удивлялся Артамон и, захваченный интересом разговора, приближался на один шаг и вытягивал шею.
Долго говорили о болезни Кости, о разных семейных новостях и домашних делах. И вдруг барыня опять вспомнила, что надо быть строгой с Артамоном и что вопрос о его поступлении на службу еще не решен.
— А что мне делать с тобой — я уж и не знаю, — удрученно вздыхала она. — Навязался ты мне на мою беду. Ну, помни, Артамон: первый раз, как ты напьешься, получай расчет!
— Слушаюсь! — весело отвечал Артамон. — Будьте покойны!
И с этой минуты он вступал в свою сложную должность и начинал орудовать.
По своей профессии Артамон был поваром, но в Белом Ключе он, кроме того, был еще огородником и столяром и маляром, а так как его жена содержала в городе прачечную и он пригляделся к ее делу, то наблюдал за глажением белья, давал полезные советы, а часто, раздосадованный неловкостью или бестолковостью своей ученицы, сам брался за утюг и щипцы и плоил и гладил. Он не только не боялся дела, но искал его, увлекался им. Целый день то здесь, то там мелькала его длинноногая, сутулая фигура с засученными рукавами, с маленьким картузом, сдвинутым на затылок, с выпученными, озабоченными глазами.
Каждый год он приходил оборванцем, едва обутый, с отросшими волосами и небритым лицом, но сейчас же преображался в приготовленную для него пару с барского плеча, предварительно выпарившись в бане и беспощадно окорнав всю растительность на голове и лице.
Один раз барыня была очень удивлена, увидев, что он бегает по двору во фраке. Но горничная объяснила ей, что больше ничего старого нет и что Артамон был даже особенно доволен, получив такую форму: он нашел ее легкой и удобной.
Дворня любила Артамона, но все, в особенности бабы, всегда издевались над ним.
— Артамон! Аль тебя жена опять выгнала? — спрашивали его.
— Она? Меня? — с негодованием переспрашивал он, — да я ее сам выгоню, мразь этакую! Я на нее не погляжу…
— Ну и видать, что выгнала, — звонко тараторила черная кухарка, которая готовила и для барыни зимой, когда она жила одна. — Уж это беспременно так! Зачем ты ей, пьяница, нужен?
Артамон багровел и становился смешон и жалок.
Все знали о его упорной, нежной и страстной любви к жене, и эта тема казалась самой забавной, когда была охота пошутить и посмеяться. В особенности весело было возбуждать ревность Артамона.
— Она и принимает-то тебя, только разве когда с дружком поссорится.
— А помирится — тебя и вон!
— Какой ты муж? Разве ты муж? Тоже мужем зовется!
Артамон хорохорился, бранил жену, искривляя лицо в самую презрительную гримасу, с ненавистью грозил ей кулаком, но не выдерживал до конца и пускался в бегство. Вслед ему раздавался хохот, и в этом хохоте не было ни злобы, ни дурного умысла, но последствием таких разговоров было то, что Артамон запивал, а если удерживался громадным усилием воли, то долго ходил сам не свой, точно больной. Одно лето он жил в Белом Ключе вместе с женой. Это было в первый год их супружества, и тогда Артамон был очень строг и суров, а жена очень робка и покорна. Казалось, она была без ума влюблена в своего Артамошу, а он слегка пренебрегал ею, слегка снисходил и никогда не упускал случая доказать ей свое превосходство и свою неограниченную власть над ней. Пил он уже и тогда, но и пьяный никогда не ронял своего достоинства, а даже особенно поддерживал его.
— Ты видишь: я пьян, — говорил он жене, значительно хмуря брови. — Что ты в этом можешь понимать? Ничего! Ты совсем бессловесная, темная тварь. Вот хотя бы теперь взять такое слово, как беф а ла Строганов или омлет о финзерб! Разве без образования выговоришь? А вот мне наплевать. Омлет о финзерб. Слышала?
— Конечно, вы образованный, Артамон Филиппович, — искренно признавала молодая.
— А ты думаешь, это все? Ты думаешь, я тебе все открыл?
Артамон пробовал презрительно свистнуть, но не мог.
— А почему не открыл? Потому что ты недостойна. Потому что ты оценить не… тово.
— Я перед вами совсем глупая, Артамон Филиппович.
— Верно! — соглашался муж. — Вот, чувствуй, и я… я тебя не оставлю. Ничего! Ты только меня уважай, а я ничего!
Но важничать Артамону пришлось не долго.
Феклуше надоело бедствовать с мужем, и она начала поступать на места: поступала и, продержавшись более или менее короткий срок, принуждена была уходить из-за мужа, который устраивал буйные сцены, требуя жену к себе домой. Никакого «дома» не было, потому что Артамон зимой только пьянствовал, а работал редко, в тех случаях, когда его приглашали на гастроли на купеческие свадьбы, вечера и балы; часто не было даже угла, где приютиться на ночь, но Артамон все-таки «снимал» жену с места и торжественно уводил ее за собой.
— Потому я глава, — с достоинством объяснял он, — и жена обязана меня уважать. Какой же это порядок будет, если такой бессловесной твари волю дать?
Он был вполне искренно убежден в своей правоте, а Феклуша, хотя и плакала и возмущалась, но, по-видимому, бес сознательно разделяла его точку зрения и где-то в глубине своего сердца не только оправдывала его, но благоговейно трепетала перед его непреклонностью и величием. Он еще продолжал поражать ее воображение.
Но случилось, что в одной пьяной драке Артамона едва не убили, и потом он долго отлеживался в больнице со сломанными ребрами. Феклуша в это время была на месте, навещая его, приносила гостинцы, баловала его, как ребенка, а он, больной и испуганный за свою жизнь, стал мягким, робким даже с женой; многократно просил у нее прощения за все ее прошлые невзгоды и стал задумываться и говорить о своей душе.
Он счел свою жизнь слишком пышной и решил искать более скромной доли.
Феклуша слушала его и часто плакала, плакала, не поднимая на него глаз и не проронив ни одного словечка, а когда уходила, то вытирала лицо и крестилась, точно оставляя за собой не живого человека, а дорогого покойника.
Почти через полгода, когда Артамон вышел из больницы, у Феклуши уже было неизвестно откуда взявшееся маленькое прачечное заведение, и жила она уже не у чужих людей, а у себя дома, где и для Артамона было приготовлено место. Муж не стал ее много расспрашивать, а просто побил, насколько хватило сил, а потом начал помогать по делу: писать счета, носить узлы и корзины, а иногда, из любви к искусству, даже гладить и складывать белье.
Вы, бабье, ничего в совершенстве дойти не можете, — презрительно говорил он. Что кухарке против повара не потрафить, то и во всем прочем. Захочу, так крахмальные сорочки отделывать стану, что куда вам, курицам.
Курицы только смеялись и подзадоривали. Но Артамон до совершенства не дошел, а получил где-то по счету деньги и пропал с ними на несколько дней. Феклуша нашла его и привела назад. Он раскаялся, еще с большим жаром принялся за работу, но опять свихнулся.
И с тех пор установился такой порядок вещей: Артамон некоторое время жил дома, днем усердно работал, а вечером читал книги или писал счета; в один прекрасный день он ухитрялся получить деньги и исчезал, а Феклуша уже не трудилась разыскивать его и уговаривать вернуться. Он возвращался сам. И когда он возвращался пьяный, она опять выгоняла его, несмотря на все его мольбы или угрозы, выталкивала его на улицу без всякой церемонии. Но если он приходил трезвый, она не только пускала его, но, как виноватая, робела и заискивала перед ним. И тогда он бил ее, точно исполнял какой-то важный, священный долг, и она покорно выносила эти побои как периодическое искупление того греха, который она чувствовала за собой.