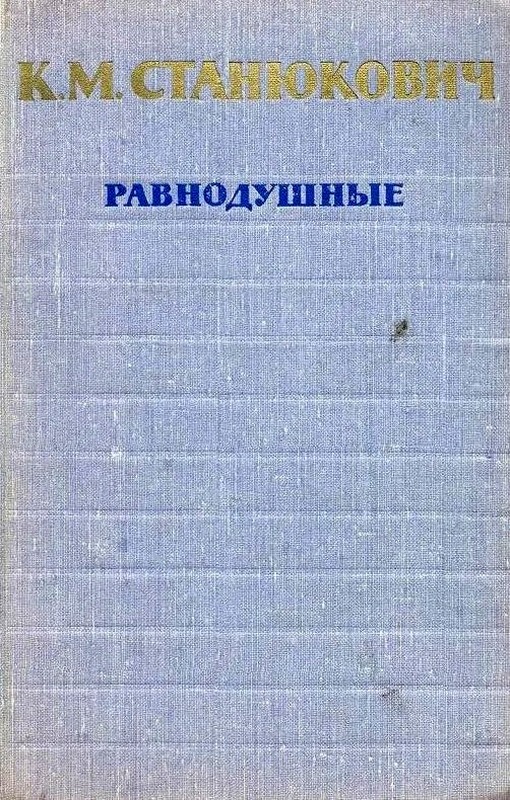и всех увлек своим талантливым рассказом. Он так художественно и красиво описывал природу, давал несколькими штрихами такие мастерские и меткие характеристики людей, что все слушали с восторгом, не замечая преувеличений увлекающейся натуры Оверина. И лицо его в эти минуты было такое выразительное, в нем было что-то такое наивно-детское, что Марианна Николаевна, взглядывая на него, видимо была заинтересована.
Оверин совсем забыл, что обещал Вавочке быть к часу, и чувствуя, что на него обращено общее внимание и что Марианна Николаевна слушает его с интересом, продолжал говорить. Словно бы опьяненный присутствием Сирены и инстинктивным желанием ей понравиться, увлеченный сам своими речами, он вдохновенно сыпал остротами, меткими сравнениями, блестящими метафорами.
Он кончил, и когда заговорили инженер и моряк, сразу почувствовалось то, что бывает, когда после хорошего артиста начинает играть бездарность. Марианна Николаевна почти не слушала никого. Разговор скоро оборвался.
— Дмитрий Сергеич! А, ведь, половина третьего? — проговорил, улыбаясь, Родзянский.
— Половина третьего? — машинально повторил Оверин.
— Нас, ведь, ждут… Мы обещали быть в час.
Оверин вспомнил о Вавочке и покраснел.
— Кто вас ждет, Дмитрий Сергеич? — спросила Марианна Николаевна.
— Одна знакомая… Мы вместе ехали из Петербурга… Родственница.
— Так идите, господа… А я думала, мы поедем за город.
— Что-ж, я с удовольствием…
— Нет, нет… Не следует заставлять себя ждать… Идите… идите, Дмитрий Сергеич.
И Оверин сконфуженно встал и начал прощаться.
— Когда же увидимся? — спросила Марианна Николаевна, пожимая Оверину руку крепко, по-английски. — Вечером на бульваре?
— Непременно.
Он заплатил свою часть инженеру и вместе с приятелем вышел из ресторана.
— Ну что, готовы? — спросил Родзянский.
— Готов! — отвечал Оверин и прибавил: — Какая прелесть эта Сирена!
— То-то, я вам говорил… Но только не думайте, что победите ее.
— Я ничего не думаю… И какое мне до этого дело. На нее молиться можно!
Родзянский насмешливо улыбнулся и сказал:
— А теперь надо придумать, почему мы опоздали!
— Очень просто… заболтались с старым приятелем… А с Сиреной встретились на улице, и вы меня ей представили… Всего пять минут говорили… Так, что ли? А то Варвара Алексеевна будет в недоумении завтра на пароходе, когда увидит, что мы знакомы… Надо теперь ухо востро… События усложняются! — весело говорил Оверин.
И когда приятели вошли в гостиницу, Оверин шепнул:
— Голубчик… Не уходите скоро… Посидите вместе у нас и отвлеките Варвару Алексеевну чем-нибудь. Ухаживайте за нею. Будьте добрым товарищем.
Юпитер, большой, роскошно отделанный пароход, один из тех щегольских, казовых пароходов Русского общества пароходства и торговли, которые делают крымские и кавказские рейсы, в исходе одиннадцатого часа утра, согласно расписанию, пришел из Одессы в Севастополь и стал, ошвартовавшись, у пристани, рядом с Графской.
Пассажиров, особенно классных, было порядочно. ехали целые семьи, было несколько мужчин, но преобладали одиночки-дамы, средних и пожилых лет, молодящиеся, туго затянутые в корсеты, подмазанные и с подведенными, беспокойными глазами.
Начиналась весенняя тяга в Крым и на Кавказ из разных углов России — преимущественно из Москвы — и больных, и здоровых, и ищущих отдыха на лоне южной природы, и любительниц верховой езды и катания на лодках с татарами-проводниками, и пожилых, но пылких сердцем, искательниц глухих уголков в Крыму, где так удобно, вдали от супругов, наслаждаться идиллией вдвоем с мифическими юнцами-племянниками, исполняющими добросовестно обязанности поклонников за стол, квартиру и небольшие карманные деньги.
На Юпитере только-что позавтракали, и многие пассажиры спешили воспользоваться двухчасовой стоянкой парохода, чтобы съездить осмотреть Севастополь, манивший с палубы своей красотой.
На небольшом, узком и тесном пространстве владений Русского общества, — маленькой пристани и узкого, огороженного несколькими постройками, крутого подъема, ведущего на улицу, — толпились пассажиры, встречавшие родственники и знакомые, и просто глазеющая публика, и босоногие, одетые в рвань, черномазые цыгане-носильщики, которые таскали ручной багаж пассажиров, остающихся в Севастополе, и большие сундуки и корзины из багажного пакгауза. Тут же, увеличивая тесноту, стояли извозчичьи коляски и ломовые дроги.
Вместе с лязгом паровой лебедки, выгружающей из трюма багаж, на этом тесном дворике агентства шел говор, раздавались мужские окрики, испуганные восклицания дам, боявшихся, что носильщики унесут багаж, и, разумеется, порой в воздухе стояла энергическая ругань, приправленная вариантами местного жаргона.
И над всей этой обычной сутолокою русской толпы — чудное бирюзовое небо с нависшим раскаленным шаром ослепительного и жгучего южного солнца.
— Экое свинство! Даже порядочной пристани не могли устроить!
Это восклицание, полное желчной раздражительности, вырвалось у какого-то долговязого, как цапля, и худого, как спичка, высокого господина, лет за тридцать, по всем признакам петербуржца и чиновника, которого чуть не угодило оглоблей ломовых дрог по голове.
Одет он был по последней моде и весьма элегантно. Еще на пароходе этот долговязый господин обращал на себя общее внимание и корректностью, и либеральными разговорами о том, как хорошо путешествовать по Европе и как трудно правительству, при всем желании, упорядочить нравы в провинции, и своим безукоризненным костюмом.
На нем был кургузый, открытый вестончик стального цвета, под которым жилета не было, а только туго-накрахмаленная, гофрированная, батистовая цветная сорочка, спускавшаяся книзу широкою складкой, по-матросски. Светлый галстук, перехваченный кольцом, с длинными концами, охватывал маленький стоячий воротник. На тонких бедрах был черный шелковый широкий пояс, из-за которого виднелась цепочка часов. На маленьких ногах — желтые башмаки. На коротко остриженной голове — панама. В руке, облитой лайковой перчаткой, тоненький зонтик-aiguile.
И вдруг — оглобля у самой шеи, благоухающей духами!
— Куда лезешь, каналья! Стой, мер-р-рзавец… Ах ты…
Однако, изящный джентльмен во время удержался и не докончил площадного ругательства.
Впереди, повиливая бедрами, шла довольно миловидная брюнетка-пассажирка.
Возчик-хохол хладнокровно осадил дроги и наставительно заметил:
— Тоже лезет под оглоблю… Мазепа и есть!
А петербургский чиновник снова повторил, нарочно громко, чтобы слышала брюнетка:
— Экое свинство! Экая Азия!
Но этот протестующий возглас не произвел ни малейшего впечатления ни на миловидную брюнетку, ни на других торопившихся пассажиров. Все они, как русские люди, да еще провинциалы, очевидно, привыкли к «свинству» несравненно большему, чем плохо-устроенная пристань, и ничем не выразили участия человеку, попавшему под оглоблю.
Только бывший около седенький, маленький и сухенький старичок, необыкновенно живой и юркий, одетый в белую коломенковую пару, в белой флотской фуражке на голове, обратил свое востроносое, морщинистое лицо на европейца-чиновника, с которым познакомился на пароходе и, между прочим, узнал, что молодой франтоватый чиновник служит в министерстве земледелия и едет в Крым и на Кавказ с казенным поручением что-то упорядочить и кого-то осчастливить, — и промолвил с едва уловимой насмешливой иронией в своем мягком теноре:
— А вы, ваше