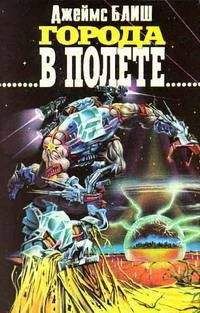Сделали они нарезку на одной из "семиток" и бросили их в фуражку, встряхнули раза два, и уговор был - в один миг выхватить монету.
С нарезкой вынул Зверев и побледнел, но притворился, что он "битк/а", и вскричал:
- Я так я!..
Но не выдержал и чуть не расплакался.
- Страшно? - спросил его Теркин.
- Страшно, Вася...
Зверев схватил его за руки, хотел поцеловать и разрюмился окончательно.
- Тебе все равно отвечать. Коли исключат тебя - вот тебе крест, мамаша тебя не оставит!..
- Ну, ладно! Только смотри, Петька: я себя не продаю ни за какие благостыни... Будь что будет - не пропаду. Но смотри, ежели отец придет в разорение и мне нечем будет кормить его и старуху мать и ты или твои родители на попятный двор пойдете, открещиваться станете - мол, знать не знаем, - ты от меня не уйдешь живой!
И так грозно он это сказал, что Зверев начал креститься и клясться. Ему даже противно стало.
- Ладно. Завтра же! Фроша меня вызовет к доске наверняка.
На второй урок пришел Перновский и первым же вызвал Теркина к доске.
Землистые щеки Перновского, его усмешка и выражение глаз, остановившихся на нем, заставили его покраснеть. У него даже заволокло зрение, и он в два скачка очутился у кафедры...
Звуки ругательного слова гулко раздались в воздухе... Учитель вскочил, схватился одной рукой за угол кафедры, а другой оттолкнул Теркина...
Началось дело. Сидение в карцере длилось больше двух недель. Допрашивали, делали очные ставки, добивались того, чтобы он, кроме Зверева, - тот уже попался по истории с Виттихом, - выдал еще участников заговора, грозили ему, если он не укажет на них, водворить его на родину и заставить волостной суд наказать его розгами, как наказывают взрослых мужиков. Но он отрезал им всего один раз:
- Я один надумал. Ни Зверева, ни кого другого я в это не впутывал.
Зверева он по второму делу все-таки не выгородил: ясно было, что и тот хотел отомстить Перновскому.
Отцу Теркина, Ивану Прокофьеву, не давали знать и не вызывали его больше недели. Потом ему написал один из товарищей сына.
Старик приехал, больной, без денег, кинулся к начальству, начал было, по своей пылкой натуре, ходить по городу и кричать о неправде.
И с приемышем своим ему не позволяли видеться в первые дни.
Теркин заболел не притворно, а в самом деле, и его положили в лазарет при пансионе, в особой комнате, куда остальных, кто лежал из воспитанников, не пускали.
У отца он, когда тот пришел к нему, стал горячо просить прощение.
- О вас с мамынькой, - он выговаривал по-деревенски, когда был со своими, - не подумал, тятенька, простите! Ученье мое теперь пропало. Да я сам-то не пропал еще. И во мне вы оба найдете подпору!.. Верьте!..
И когда он эти слова говорил Ивану Прокофьичу, то совсем и не подумал о клятвах Зверева насчет денежной поддержки его старикам. Не очень-то он и впоследствии надеялся на слова Зверева, да так оно и вышло на деле.
Иван Прокофьич, прощаясь с приемышем, сказал ему: - Вася!.. Ты хоть не кровный мой сын, а весь в меня! Мать сильно сокрушалась, лежала разбитая, целые дни разливалась-плакала. Это Теркина еще больше мозжило, и как только уехал домой отец, ему начало делаться хуже. Хоть он все время был на ногах, но доктор определил воспаление легкого.
Бред начался у него. Он слег и добрую неделю то и дело терял сознание. Его перестали вообще беспокоить.
Зверева просто исключили, без права принимать в ту же гимназию; хлопотали отец и губернский предводитель. Да и не хотелось начальству, чтобы разнеслась история с Виттихом. Виттиха, однако, уволили через два месяца, а Перновский сам подал прошение об отпуске и перевелся куда-то далеко, за Урал.
После кризиса Теркин стал поправляться, но его "закоренелость", его бодрый непреклонный дух и смелость подались. Он совсем по-другому начал себя чувствовать. Впереди - точно яма. Вся жизнь загублена. С ним церемониться не будут, исполнят то, что "аспид" советовал директору: по исключении из гимназии передать губернскому начальству и отдать на суд в волость, и там, для острастки и ему, и "смутьяну" Ивану Прокофьеву, отпустить ему "сто лозанов", благо он считал себя богатырем.
С каждым днем своего выздоровления все сильнее убеждался он в том, что так именно и будет. Сначала высекут в волостной избе, продержат в холодной, а потом приговор постановят: сослать его на поселение.
Ему это представлялось ярко, в образах. Он видел рожи всех врагов Ивана Прокофьева и вожаков и горланов из голытьбы, слышал их голоса на сходке. Давно они лютою злобою дышат на его отца, не разумея в своей тупости и подлости, что он один на всем селе истинный радетель за правду и справедливость. Да им какое до этого дело!.. Такого случая унизить и донять Ивана Прокофьева сход не упустит, а в судьях сидят его отъявленные "вороги": Павел Рассукин да Поликарп Стежкин. И голова - их человек, плут, подлая душонка, Степан Малмыжский. Тот на всякое гнусное дело пойдет, только бы ему выслужиться перед начальством.
Не за себя его страшило все это, а больше за стариков. Их это убьет. Иван Прокофьев не стерпит, поднимет гвалт, проштрафится, его самого могут сослать. Старуха умрет с горя, в нищете.
Потом и за себя ему делалось страшно и тяжко до нестерпимого отчаяния. Целые ночи напролет он метался один на своей лазаретной койке.
Ведь у него теперь никаких прав нет!.. Будут его "пороть". Это слово слышит он по ночам - точно кто произносит над его ухом. Мужик! Бесправный! Ссыльный по приговору односельчан! Вся судьба в корень загублена. А в груди трепещет жажда жизни, чувствуешь обиду и позор. Уходит навсегда дорога к удаче, к науке, ко всему, на что он считал уже себя способным и призванным.
На пятый день таких мук его на рассвете пронзила мысль:
"Лучше с собой покончить!"
Ее он не испугался. Как ни велик будет для его стариков удар - самоубийство приемного сына, - но все-таки он не сравнится с тем, через что они могут пройти, если его накажут в волости и сошлют...
Да и большой храбрости не нужно, чтобы с собою покончить.
Мысль начала входить в его мозг, как входит штопор в пробку, стойко, упорно, пока не довела до бесповоротного приговора воли.
Но револьвера негде достать. Веревку легче, но как? Подкупить сторожа? При нем состоял особый унтер, суровый и полуглухой. С ним надо кричать. Из товарищей к нему никого не пускали.
Голова работала днем и ночью. Жажда покончить с собою все росла и переходила в ежеминутную заботу. Выздоровление шло от этого туго: опять показалось кровохарканье, температура поднялась, ночью случался бред. Он страшно похудел; но ему было все равно, - только бы уйти "от жизни".
При лазарете состоял фельдшер, по фамилии Терентьев, из питомцев воспитательного дома. О его происхождении Теркин давно знал, и это их сблизило. Ведь и его отнесла бы мать в воспитательный, родись он не в селе, а в Москве или в Петербурге.
Терентьев ухаживал за ним и жалел его.
И доктор, когда болезнь Теркина выяснилась, требовал от начальства гимназии, чтобы Теркина оставили в покое, не запугивали его и не держали бы как арестанта.
Терентьев давал Теркину книжки, видя, что он впадает в уныние, по целым дням лежит или ходит молча. В госпитале домашняя аптечка помещалась рядом, в проходной комнате.
С лекарствами этой аптечки Теркин хорошо ознакомился. Тут были все невинные средства, но он разглядел в углу и порядочную склянку с опиумом.
Частенько шкапчик оставался без ключа. Да фельдшер и не мог иметь никаких подозрений. Не станет же больной воровать спирт и разбавлять его водой - он не пьющий, да и вообще, по его мнению, "натура благородная и пылкая".
Не трудно было Теркину отлить половину опиума в пузырек и поставить склянку в угол так, чтобы она не бросалась в глаза.
Вечером того дня доктор заехал часу в девятом, посмотрел температуру, справился об аппетите и прописал микстуру против бессонницы.
Уходя, он сказал ему, выслав фельдшера:
- Послушайте, Теркин... не кривя душой, я могу вас продержать здесь до Пасхи. Но не дольше. Может быть, если б вы торжественно повинились...
- Ни за что!
Доктор, кажется, испугался выражения его лица и поспешил прибавить:
- Как знаете. Только здоровье-то надо восстановить. Что бы с вами ни сталось, это ваш единственный капитал.
В девять ушел фельдшер; сторож ночевал рядом, в передней. В четверть десятого Теркин сразу выпил все, что было в пузырьке. Думал он написать два письма: одно домой, старикам, другое - товарищам; кончил тем, что не написал никому. Чего тут объясняться? Да и не дошли бы ни до стариков, ни до товарищей письма, какие стоило оставлять после своей добровольной смерти.
Он ждал ее храбро, рука у него не дрогнула, когда выливал в рот густую жидкость. Чуть не поперхнулся, но проглотил все.