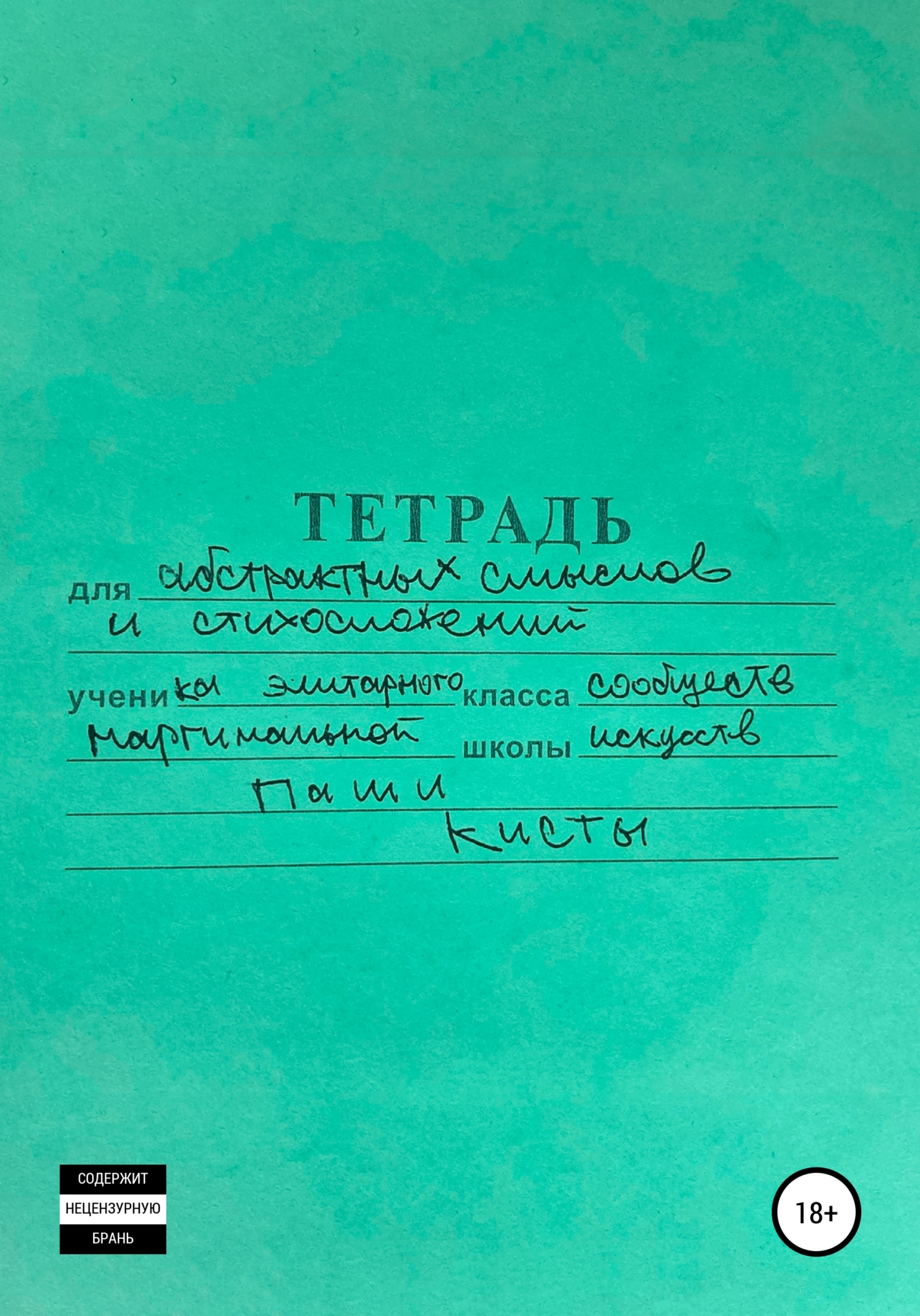меня её выиграет, тогда отдаю – пожалыста». Я, было, от этих его слов опешил и хотел, было, задом отворять дверь, опасаясь какого-то подвоха. А он, видимо, только весельчак, шутник и забавник, ну, и я не через коленку плетён. Он ухватил меня за рукав и не отпускает, усмехаясь, настаивает – давай да давай играть под тарашку. Я долго не соглашался, боясь подвоху, меня грызла мысль, а ну-ка да я просажу всю трёшницу, тогда домой без рыбы и без денег лучше мне не возвращаться. А потом всё же соблазнился и думаю: а, была-не была, трус в карты не играет. Да и кого не соблазнит и не раззадорит такая тарашка, особенно с икрой, а запах-то от неё так и лезет в нос, как ни говори, глазам заманчиво и зубам соблазнительно. Хозяин так и соблазнил меня в «очко» с ним сразиться. Бочку с тарашкой весом в 160 фунт он оценил в шесть рублей, а у меня, значит, денег – трёшница. Ну, мы и начали. Ради привилегии банковать он стал первым, а за то, что я без спору разрешил ему банковать первым, он из своего ухарства со стоимости своей тарашки сбавил рубль, оценив бочку уже только в 5 целковых. Положив условно в «банк» пару рублей, он раздал карты. Я осторожненько подколупнул краешек карты, гляжу, туз бубновый, ну, думаю, первый блин и не комом. «На сколь идёшь?» – спросил он меня. «Для первости – на целковый», – отвечаю я ему. Он подал мне вторую карту, я дрожащими пальцами «выжимаю», гляжу, черви ж пятятся, смотрю, не десятка ли – так и есть. «Очко» – потрясённый радостью, кричу я. «Ну, что ж, ничего против не имею», – хладнокровно и степенно изрёк хозяин и снова раздал по карте мне и себе. Гляжу, на этот раз у меня валет. Глубоко вздохнув, говорю: «В этот раз на полтинник». «Жму» карты, а сам одним глазком за банковщиком наблюдаю, как бы подвоха какого не было. Хвать нет, всё идёт честно, благородно. И вот, братцы, я словно под счастливой звездой родился, мне чертовски повезло как утопленнику на мели. И что мы с ним не играли – редко коли у него перевес в очках был. У меня 19, у него казна, у меня 20, у него «перебор». Потом взялся банковать я: у него 19, у меня 20, у него 20, у меня «очко», и так всю дорогу. Одним словом, я под его всю бочку тарашки «подъехал». Когда мы игру кончили, хозяин наивно проговорил: «Ну, что ж, я признаюсь – проиграл, тебе всё время вон как везло», – с нескрываемой обидой заключил он, но вижу, что со мной поступить хочет по-честному, сохраняя своё доброе купеческое имя. «Забирай свою тарашку и уматывай отсюда», – взволнованно проговорил он мне. Я говорю ему: «Погоди, я на подворье за лошадью сбегаю, на телеге подъеду и тарашку погружу. Тут недалеко, подворье наше у Курочкина Ивана Сергеевича, ты его знаешь, тут совсем рядом, я доскочу и подъеду».
А купец «на дыбы». Нет, говорит, забирай скорее свою рыбу-выигрыш, я лавку сейчас закрываю на обед, глядя на ручные золотые часы, время-то уже час. Его, видимо, с досады всего врозь раздирало от проигрыша. Я и говорю ему: «Тогда я сейчас выкачу бочку-то с тарашкой на улицу, на тротуар, а потом подъеду, увезу». А он: «Вишь ты, какой ухач нашёлся. Бочку выкатить хочет, я рыбу тебе проиграл, а в счёт бочки – тары – уговору не было». «За кадушку-то я тебе деньги уплачу», – предложил я. А он в пузырь: я, грит, тару не продаю, она мне самому позарез нужна. Сунулся, мешка-то нет. «Так куда же мне тарашку-то девать?» – озабоченно говорю я ему. «А куда хочешь, это не моё дело». И так напористо грудью нажимает на меня, что мне невольно вздумалось: вот так тебе фунт изюму, с выигрышем, а в просаке! А он на меня вполне сурьёзно: «Ты скорее думай, а то нам с тобой тут некогда валандаться-то – обед проходит. Забирай и убирайся!» – строго прикрикнул он на меня, подталкивая меня к двери. Я, конечно, осмелев, упираюсь, ведь всё же жалко расставаться со своей выигранной тарашкой. «А тарашку-то!» – испуганно промямлил я дрожащим голосом. «Яшк! – приказно скомандовал он сыну, – давай выпростаем бочку – пусть собирает». И они, моментально подскочив к бочке, подхватили её руками, одним махом приподняли её над моей головой и выбухнули всю тарашку на меня, со всем рассолом, окатив меня с головы до ног.
Заслышав эти слова, игроки во всех трёх кружках так расхохотались, что впору на некоторых хоть обруча набивай, чтоб не рассыпались. Фёдор хихикал, Митька хаханил, Смирнов гоготал, а с полдюжины молодых парней, надрываясь от смеха, поджав животы, катались по лужку.
– Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! Го-го-го-го!!!
А Ершов продолжал:
– От рассолу я чуть не захлебнулся, отплёвываюсь и пригоршнями чешую с себя согребаю, а они, купцы-то, зубоскаля, хохочут надо мной, измываются. Я гляжу, дело приняло неприятный оборот – к двери, к двери и шумырк на волю. Выскочил на улицу-то и бежку! Бегу, а с меня рассол течёт и рыбья чешуя сыплется, и разит от меня, как из нужника. Перевёл дух, оглянулся, а они с крыльца, поджав животы, мне взапятки-то хохочут: «Ха-ха-ха!» А мне было не до смеху. Про себя думаю, как бы народ не насмешить – позору не оберёшься. Подумав, как бы погони не было, я прибавил пару, побежал ещё пуще. Шла по тротуару какая-то барыня в шляпе и вроде кулём в руке, завидя меня, опасливо посторонилась, слышу – молитву шепчет. А с меня чешуя летит, на ветру развевается, как мартовский снег с неба. Бегу и думаю, как бы на мельтона не напороться, заметит – в каталажку за наведение беспорядка на улице города запичужит, а там разбирайся, кто прав, кто виноват. Ведь полицейские – народ неумолимый, за пустяки сграбастают, запичужут в какую-нибудь «гпву», а там оправдывайся, доказывай свою правоту, ясно, что не докажешь – виновным так и останешься. А я от кого-то понаслышился, что в этом самом «гпву» или «гплу» двери-то навешены не, как обычно, наружу, а внутро, так что скоро-то оттуда не выкарабкаешься. Подбегая к подворью, я сбавил бег, малость отдышался, очухался, стал остатки чешуи с одёжи счищать, прихорашиваться. Сунулся в карманы, а там две таращины оказались, видимо, случайно скользнув, туда угодили, когда меня обливали. Эти две таращины мы впоследствии дома с бабой съели, хорошая была, с икрой –