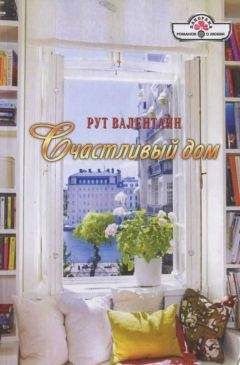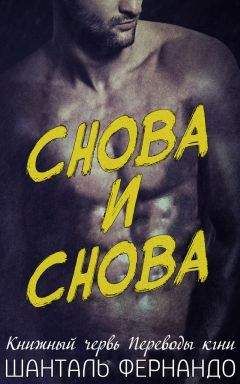во французской провинции. На улицах стояла сырость. Я предпочитаю, когда действие происходит в Лос-Анджелесе. Там всё большое, но дело не только в этом. Там убийства, койоты, хайвеи. Жара.
Там всё большое. Не сочится влагой.
Мне удается отвлечься. Перестаю слышать ее стоны.
Двоюродная сестра позвонила из Канады, сказала, тяжело ухаживать за старыми родителями. У меня появился ком в горле. Едва смогла сказать ответить ей, да. Потом поговорим, момент неподходящий, очень тихо. Поговорим в другой раз.
Она не слышит, я повторяю чуть громче, поговорим в другой раз.
Новость облетела всю семью.
И все говорят, что ее нужно отправить в дом престарелых.
Дома престарелых сейчас очень хорошие, да и называют их теперь «Дома для пожилых», в них даже попадаются бывшие министры.
Я говорю, посмотрим.
Но я знаю, что ничего не изменится, она не согласится.
Смотрю на нее и понимаю, что не может быть и речи.
Она не захочет и не пойдет туда. Нет, об этом и речи быть не может. Моя мать, кожа да кости, еще чувствует себя человеком, и для нее дома для пожилых – место, куда людей выбрасывают, они для людей, которые ждут смерти.
Она ее не ждет. Не хочет умирать. И речи быть не может.
Кроме того, она не хочет покидать свою квартиру.
Она ее любит. Сразу полюбила, как только увидела. И с тех пор любит всё больше и больше. У нее впервые была такая красивая квартира с множеством комнат, где она могла принимать детей, когда они иногда приезжают. Ей всё нравится в этой квартире.
Нужно, чтобы на кухне было очень чисто.
Да далась тебе эта кухня. Там же чисто.
Да, но нужно, чтобы было очень чисто.
Тогда я беру сигарету и иду курить на террасу. Пепел падает в сад соседей снизу.
После слов «очень чисто» только это меня и спасает – выкурить сигарету на террасе.
И у меня в ушах всё еще звучат ее слова: очень чисто, чтобы всё блестело, идеально чисто.
И я знаю, что опять она о кухне. Я не слышу детей, играющих в саду, я тоже чувствую себя как будто глухой, когда она произносит «очень чисто».
Перед этой кухней она почти выпрямилась, потому что после больницы она как тряпичная кукла, и смотрит на нее.
Приходят подруги. Они беседуют. Ты поправишься. Да.
По сравнению с прошлой неделей тебе уже лучше.
Это всё парикмахерская. Да, это помогает. Ее три волосины расправили на лбу. Так моложе. Так еще хуже.
Первый выход был в парикмахерскую, в тридцати метрах от дома, но поскольку она едва ходит, сестра отвезла ее на машине, а потом забрала. Это была парикмахерская и салон красоты. Теперь она сменила парикмахера, и тот ей посоветовал отрастить волосы, и когда она возвращается от нового парикмахера, она хорошо себя чувствует.
Да, она вернулась с прической. Парикмахерше удалось скрыть то, что у нее осталось мало волос на голове. Удивительно, но факт налицо.
Тогда она стала приглашать гостей на кофе после обеда, по-простому, без церемоний. Хорошо причесанная.
Кофе и пирожные подавала моя сестра. Она накрывала на стол, потому что мать была еще слишком слаба.
А мне недвусмысленно дали понять, что мне лучше не лезть, иначе я устрою катастрофу. Настоящую катастрофу. Разобью чашку, переверну ее, посажу пятна на скатерть, упаду с подносом или того хуже.
И всё начинается снова, тебе же лучше. Тебе просто надо отдохнуть.
Та или другая подруга спрашивает, когда у тебя операция?
Через месяц.
Месяц, восклицает одна из них. Все они знают, что никогда не знаешь, что может случиться, что она, возможно, не протянет месяц.
И все вздыхают. Все знают, что за месяц всё может случиться, можно даже перестать дышать.
Вчера по телефону она сказала, так тяжело ждать.
В самом деле тяжело, я бы предпочла, чтобы операция была завтра.
Я не сказала ей, что потом, если она останется жива, тоже будет тяжело. Десять дней в больнице. И все недели, пока она будет приходить в себя, восстанавливаться, так это называют, тоже будет тяжело.
Я сказала себе, меня здесь не будет.
Я не хочу сидеть с ней и помогать восстанавливаться.
Да я и не помогаю. Она сама мне сказала, ты мне делаешь хуже, а не лучше. Возвращайся к себе. Она не совсем так сказала, но имела в виду именно это, во всяком случае, я ее так поняла.
Иногда я понимаю всё неправильно, но не всегда. Она также сказала, и в этом уже я уверена, я чувствую, что ты от меня бегаешь и что я тебя раздражаю. Скажи мне, я тебя раздражаю, и я говорю, нет, дело в другом. Она, кажется, действительно хотела знать. У нее был такой тон, какого раньше я у нее не слышала.
Она, моя мать, меняется. А я нет. Я не говорю ей, что она меня раздражает, я не привыкла так разговаривать с собственной матерью. Думаю, что я никогда не плакала и не кричала, когда была маленькой или даже позднее. Не хотела или не могла, думаю, это из-за того, что произошло с матерью до меня.
Я говорю только, что у меня проблемы, и надо принять решение, а я в сомнениях.
Принимай, не сомневайся. Нет, говорю я.
И я не могу писать.
Тут я тебе ничем помочь не могу, я не писатель.
Однажды, уже гораздо позднее, в Мексике, после того, как она вышла из мексиканской больницы, где пролежала несколько недель, сестра мне сказала, что ее ничего не интересует и что, сколько бы для нее ни делали, этого всегда недостаточно.
Нет, она ничем не интересуется, и у нее всё болит, вот что ее интересует, и я ее понимаю. Пусть даже это не так интересно, но тем не менее. У нее ревматизм, у нее болят руки, спина, плечи, глаза, живот. Живот пухнет, газы. У нее плохое пищеварение. Она слаба, едва может ходить. Душ принимает с чужой помощью.
Ей так нравилось принимать ванну, но она больше не может, ей самой уже не вылезти из нее.
Раньше она принимала ванну каждый день, и это ее расслабляло, после этого она какое-то время чувствовала себя лучше.
Теперь всё. Раньше – это не так уж давно, до того, как она полетела бизнес-классом в Мексику на свадьбу своей внучки.
Это было после операции, и врач сказала