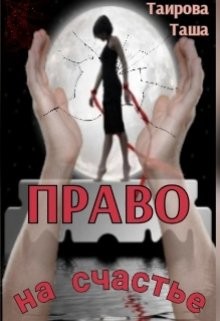посудине.
Каждое воскресенье рано утром папа сажает меня в трамвай, дает тридцать копеек на билет, и я еду на Подол, где меня встречает дед Яша. Все замечательно складывается: я еду от одной конечной остановки до другой. Водители и кондукторы со мной уже давно знакомы, так что родителям не нужно переживать – трамвайное депо за мной присмотрит. Часто дядя Шурик – водитель трамвая № 12 – разрешает мне стоять в кабинке рядом с ним и смотреть на дорогу из первого ряда. Он включает «Полет Шмеля» в исполнении Горовица, и мы едем, иногда позабыв остановиться на очередной остановке, чтобы подобрать старушек с березовым соком и ребят с теннисными ракетками, мячами и сосновыми шишками в прозрачных пакетах.
– Мое жиденятко приехало! – дедушка помогает мне выйти из трамвая, поднимает на руки и начинает кружить, я чувствую себя обручем, он крутится вокруг талии девушки молодой или девочки маленькой, я кружусь. Я люблю кружиться.
– Яша, тише! Люди кругом! – бабушка Оля гладит меня по голове.
– Подумаешь, люди! Да, жиденятко! И что? Зато гля, какой Человек вырос! А!
Бабушка Оля покрывается своим привычным румянцем, а дед кружит еще сильнее.
– Не разболтай мне ребенка! – дает напоследок свои наставления бабушка Оля и отходит от нас подальше, ей всегда неудобно перед людьми.
Бабушкина голова покрыта шелковым платком нежно-голубого цвета, она ставит свечу напротив иконы Николая Чудотворца, закрывает глаза и начинает молиться. Я стою рядом. Со всех сторон на меня смотрят грустные лики святых.
– Почему они такие грустные все? Они ведь с Богом живут… – спрашиваю я у бабушки, когда мы выходим из церкви.
– Во многой мудрости – много печали…
– Не морочь голову ребенку! Фрося, любая религия – это сборище рабов. А отчего рабу улыбаться?! – отвечает дедушка и продолжает курить папиросу.
Все это время, пока мы с бабушкой были в церкви, дедушка ждал нас на улице. Дед Яша не верит в Бога и не любит священников. Отец бабушки Оли был попом. Однажды к нему пришли люди с ребенком и попросили крестить сына, мальчик давно и сильно болел. Родителям сказали, если не окрестят ребенка, он умрет.
– Что принесли? – спросил поп.
Мать поставила у его ног кошелку, в ней был десяток домашних яиц, литр молока и кусок сала. Поп скривился, отодвинул ногой корзину и ушел доедать свой завтрак, уже третий за утро.
Дедушка Яша все это видел. На следующий день было воскресенье, но он не пошел в церковь, как это делал обычно. Никогда больше не ходил туда мой деда.
Аркаша
Смотрите, чего у меня есть!
Аркаша вынимает из кармана скальпель.
Аркаша
У отца стащил.
Степа
Подумаешь! Вот у меня – так это вещь!
Степа достает из носка большой гвоздь.
Степа
Этот гвоздь папа вогнал себе в ногу и сам вытащил! Без наркоза!
Фрося смотрит на свое платье, замечает на нем нитку и, пока никто не увидел, стыдливо кладет нитку в карман.
Степа
Я буду бригадиром на стройке, как мой папа!
Аркаша
А я, как мой, – хирургом!
Фрося
А я – пингвинологом!
Степа
Кем-кем?
Аркаша
Кем ты будешь?
Фрося
Пингвинологом, как мой папа, – это биолог по пингвинам.
Степа
(смеется)
Ага, щас!
Аркаша
(улыбается)
Да… Фросе не повезло, у нее две мамки!
Степа
(смеется)
Ага! Пианистка Белла и швея Петя!
Фрося
Это неправда! Вы просто завидуете!
Аркаша
Фрося, ты, конечно, наш человек, хоть и девчонка, но врешь ты, как дышишь!
Фрося
Я не вру!
Мальчишки смеются. Фрося в слезах убегает.
Дом. Коридор. Мастерская Петра. Вечер. Пятница
Фрося бродит по дому. Смотрит на свои белые носки – их со всех сторон обнимают нитки разных цветов.
Фрося снимает носки, с ненавистью швыряет их в окно. Смотрит с презрением на половой ковер – кругом нитки. Злится. Идет на звук оверлока. Приближаясь к нему, видит, что ниток на полу все больше и больше.
Петр в мастерской оверлочивает брюки, ловит взгляд дочери, нежно улыбается ей.
Петр
Доча, почистишь мне оверлок?
Фрося в ответ молчит. Мимо нее «раком» проходит бабушка Роза, собирая с пола нитки.
Роза
Только ж утром пылесосила!
Петр неловко, пальцами ноги тоже подбирает несколько ниток. Фрося уходит, хлопая дверью. Роза и Петр смотрят удивленно ей вслед.
Петр
Простите, Роза Ароновна.
Петр помогает Розе Ароновне собрать нитки.
Понедельник – так зовут мой любимый день. В этом слове прячутся добрые слова: пони, лень, кино, дело, конь, лен, день и одно слово злое – лед. В этот день – д ень лени и пони – папа берет меня с собой на работу, он у меня портной. Папа не как все, у всех пап есть автомобили, у моего папы – мопед, его шлем, как гипс на руке больного, – весь исписан, изрисован. Когда идет дождь, краска стекает на папино лицо, но он никогда не злится и не ругает меня, вместо этого папа кладет в мои руки шлем и просит нарисовать что-то новое. Но в день коня мы едем с ним на метро – мама не разрешает мне садиться на мопед.
Мы стоим на платформе и ждем электричку, я захожу за белую линию, беру папу крепко за руку, становлюсь на носочки, тянусь в сторону рельсовой пропасти и смотрю в темный туннель в ожидании двух желтых глаз, которые с каждой секундой становятся все больше, пока поезд не выезжает из темноты.
Тогда глаза вмиг закрываются, тухнут, как тухнет свеча от сильного выдоха. Сильный ветер вместе с собой приносят вагоны; сильный, но, к сожалению, короткий. В электричке папа держится за поручень, а я, обняв его колено, держусь тоже.
Ателье, в котором работает папа пять дней в неделю… В нем пахнет теплом, оно просторное, неубранное. И оттого, что окна ателье на солнечной стороне, всегда можно видеть пыль в полете. Оказывается, она, когда не лежит серым покровом на вещах, красива; пылинки танцуют медленно вальс. Пыль – она всегда есть, чтобы ее увидеть, нужно лишь посветить на нее солнцем, лучом солнца.
У папы нет своего кабинета, свой – есть только у главного директора и главного бухгалтера.
– Папа, когда ты станешь главным портным, у тебя тоже будет свой кабинет?
– Главных портных не бывает.
– И хорошо, скучно сидеть одному целый день в кабинете.
Кругом шумят швейные машинки. Папа