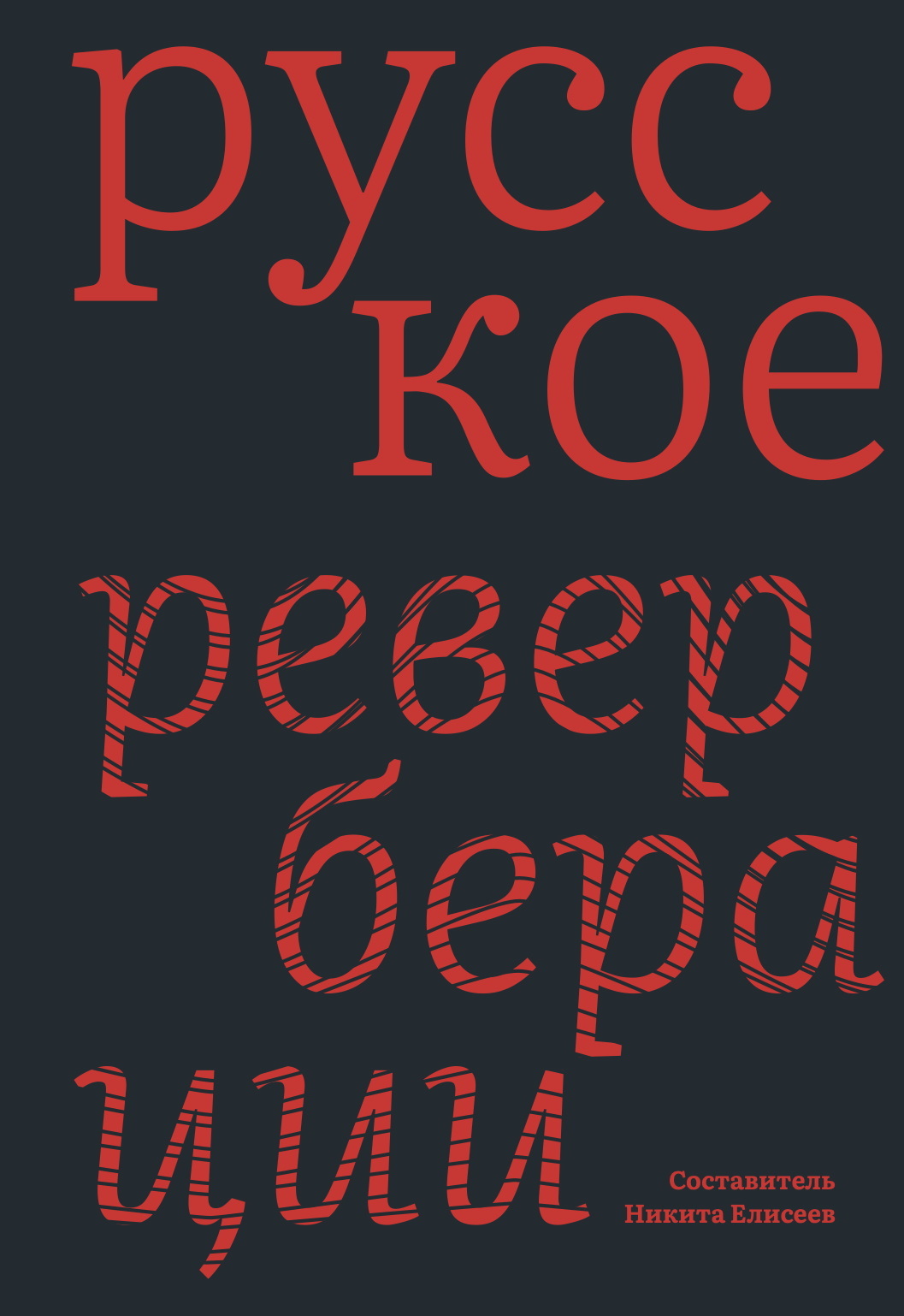звали.
– Манькой будет, – решил Пеца. – У меня баба была – Манька…
– А теперь надо выяснить, кто из петухов будет главным. – По проходу разгуливал Веселый, и, почувствовав развлечение, исходящие маятой и скукой люди высунулись из нор. Веселый достал моток тонкого шнура, сплетенный кропотливо из разных ниток и необходимый в камерном обиходе. – А ну, Танька – Манька, – ко мне!
Обмякший Вадим ничего уже не соображал и опасливо поглядывал на Веселого, хорошего для себя не ожидая и надеясь только, что от совсем плохого как-нибудь убережет. Прежде чем что-то сделать, он косился на Таньку и повторял за ним, боясь все же сделать что-то не так. По приказу Веселого они оба разделись и нагишом уселись в проходе примерно на метр друг от друга. Веселый, разматывая клубок крепкого шнура, стоял между ними и притворялся, что не замечает любопытно устремленных на него отовсюду взглядов.
– Сейчас я вам, петухи-задиры, дам по куску шнура с петлей на конце, и вы в петли эти всунете свои причиндалы, а потом мы и выясним, кто главный петух. Эй, кто-нибудь, подайте «трамвай».
Ларек подхватил от общака деревянную лавку и всунулся с ней в проход. Веселому пришлось раздвинуть сидящих, так как лавка была побольше метра и между ними не вмещалась.
– Ну, зацепили мошонки свои, кукарешники? Теперь я пропускаю шнурки между ножками трамвая, зацепливаю за ножки, чтобы ослабить тягу, и конец от Танькиной петли даю в руки Маньке, а от Манькиной – Таньке… Все понятно? Ну и теперь вам по моему сигналу тянуть, кто не выдержит – проси пощады, проиграл, значит, не главный, значит. Ну а кто главный, того другой во всем слушаться будет. Ясно? Начали! – Веселый для затравки поддернул сам оба шнура.
Боль показалась вдруг на удивление не сильной, ведь все существо готово было сразу к чему-то совсем непереносимому, но это ощущение продолжалось ровно столько времени, в которое и успело вместиться само удивление от того, что при боли вот можно и еще о чем-то думать и даже чему-то удивляться; и сразу же онемели ноги, и все внутренности начало вытягивать, и пошло… И выше, и выше, и вот уже вроде из самого мозга потянуло, да с перекрутом выматывающее что-то – ослепительная струна накручивала на себя все новые внутренности, шилом пронзая тело, нанизывая его на себя… Это была новая какая-то боль, не знакомая по всем прошлым несчастьям; боль с онемением, с потерей постепенной разных частей – где сейчас вот его ноги? Да и что это такое, ноги? Все Вадимово лицо стянуло в левую сторону и продолжало стягивать, сжимая, вминая всю его голову в страшный кулак возле уха… Искривленным взглядом Вадим уцепил Таньку с выпученными глазами и по этим глазам понял: Танька не выдержит, Танька сейчас отступит – дернул сильнее… Сам он ни за что не сдастся, здесь уж он не отступит… Вот перед ним наконец явный враг, сволочь… Сво-о! – о! – лочь! который причиняет такие страдания, и для того только, чтобы подчинить его, Вадима, себе… Зримый враг, но его Вадим одолеет… На секунду какую-то включился звук, и врезался в голову взрывом хохот и гром, но снова исчезло все, и голову свернуло полностью, выдавливая глаза, и теперь-то, столько уже выдержав, он не уступит… Ни за что – о, сволочь, о, сво-о-о-о-о-о…
Вадим с искривленным, стянутым в одну сторону лицом, сжав зубы и растопырив толстые свои губы, выл, плакал и выл, тянул на одной пронзительной ноте страшный тонкий крик, мотал головой, не видя ничего от слез, набухающих на глазах взамен скатившихся крупных капель. Облепленный со всех сторон судорожным хохотом, не видя даже, что Танька раскусил уже всю забаву (понял, что невидимым в переплетении под трамваем шнуром сам себя терзает, – и тоже смеется теперь, утирая слезы, смеется, хотя не схлынула у него еще своя боль); отгороженный от всех своей ненавистью, своим упорством, всеми своими несчастьями, Вадим кричал тоненько и рвал сам свои же ткани, рвал, пустив уже себе кровь, не соображая ничего…
…Неожиданно тонкий вопль – жалобный, но с переливами в возмущение, злобу и вновь истончающийся до плачущей жалобы – пронзил заполненную хохотом камеру. Давно уже и бесследно испарились утреннее благодушие и покойная радость. Сколько еще позволят пролежать мне здесь, под светом, на мягком, при книге и куреве? Завтра и послезавтра, скорее всего, еще тут, а в понедельник дубак обязательно доложит про «голодовку» и – покатится… Карцер и потом… что потом?.. Раздражал хохот, громыхающий вокруг, и еще более хохота – недовольство собой… чего я требую голодовкой своей?.. Не придумать хоть сколько-нибудь разумного… значит, впереди совсем уж сумасшедшие испытания… не для чего… А назад, на попятную?.. Нет уж – главное, не помогать им побеждать… ведь именно это – главное, тот минимум, который зависит от меня только… Ну, кто там воет?! – Это же невыносимо. Господи!..
Тут только я увидел Вадима.
Давно когда-то подобное уже было со мной. Прижатый со всех сторон к решетке обезьянника, я боролся с тошнотой и сильным, сразу выдавившим холодный пот головокружением. Не было сил протолкнуться сквозь ревущую и хохочущую толпу, да еще боязнь неудержимой тошноты среди всех этих разинутых жарких пастей, а там, внутри клетки, рвался жалкий никудышный шимпанзе из случайного капкана… Сильно тошнило, и как тогда, в зоопарке, хотелось забиться куда-нибудь, подальше отсюда, к чертям деловое свидание, из-за которого я сюда пришел, куда угодно, лишь бы – одному, лишь бы никого, совсем никого… Да и вообще, зачем все это?.. Именно все – зачем? Разве вся жизнь не такое же вырывание себя – в кровь?.. Не тот же жалкий, плачущий, злобный и негодующий вой?.. Почему же я не вою в голос, взахлеб?.. Почему все не воют? Или воют, только никто не слышит, потому что у всех в ушах такие же клочки рыжей ваты, как у меня? Специально ведь и затолкал ее в уши… Для того и затолкал, чтобы не слышать никого, чтобы не мешал никто… Это ведь только такая вот скотская забава, такой вот и не человеческий уже вопль пробиться смогли, а у других, а у всех – та же вата, только забито поплотнее…
Лязгнула кормушка… Отбой.
Шконки колыхались, принимая на ночь разом потускневших арестантов. Теперь, без легкости общих забав и общих бед (да, да, и беды, если они соединяют, – легки), враз окунувшись каждый в свои собственные горести, тревоги и надежды, расползались по своим норам обитатели «девять-восемь»,