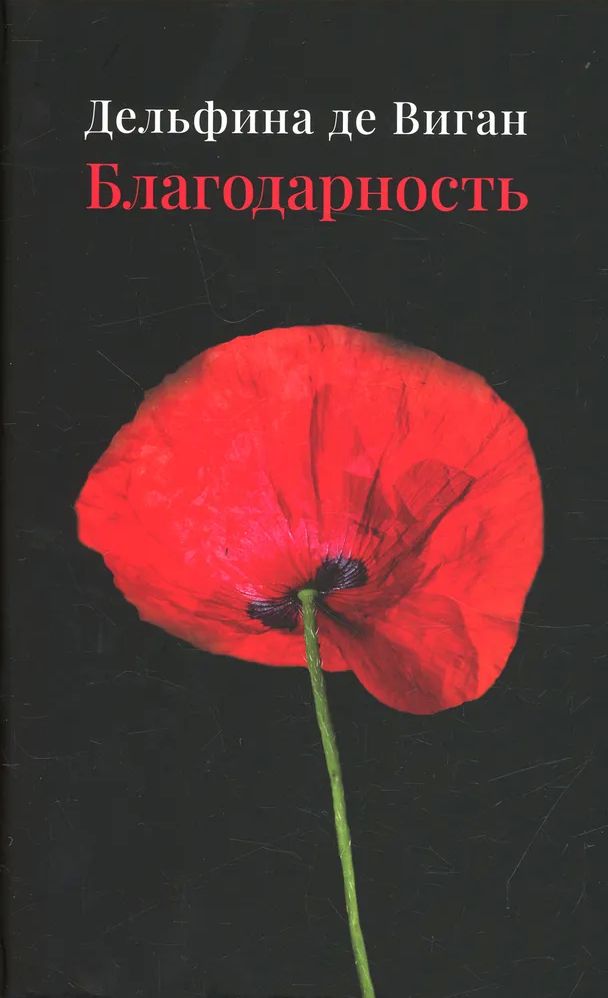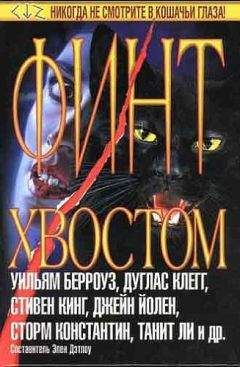— Я в курсе всего, мадам Сельд. Основой эффективного управления учреждением для пожилых людей, нуждающихся в уходе, является безупречная работа разведывательной службы. Ну-с, и что же вы скажете в свое оправдание?
— Мне очень жаль, я не хотела причинять вам хлопот. Ничуть. Но ведь человеку нужны маленькие секреты, совсем пустяковые, согласитесь? Чтобы ощущать себя живым. Каждому из нас нужны маленькие секреты, какие-то дела, которые мы делаем наедине с самими собой, пусть даже немного запретные. А еще каждому из нас нужно знать, что мы можем закрыть дверь и побыть одни, когда нам требуется покой. Понимаете, о чем я? Эти поступки совершаются не в пику вам, поймите, мадам…
— Ростбиф.
— Не в пику вам, поймите, мадам Ростбиф. Нам просто нужно иногда почувствовать себя хоть немного свободными, а иначе зачем?
— Да-да, мадам Сельд, этот вопрос я хотела бы задать и вам! Вот он, истинный вопрос: зачем?
С этими словами директриса удаляется. Эхо ее шагов разносится по коридору.
ЖЕРОМ
За несколько недель речь Миша стала более медленной и путанной: случается, она останавливается на середине фразы, совершенно потеряв нить высказывания, или, даже не пытаясь припомнить забытое слово, сразу произносит следующее. Я учусь следить за ходом ее мысли.
Я понимаю, что побежден. Переломная точка пройдена. Не знаю, почему это происходит, но с мадам Сельд это точно уже произошло. Сражение проиграно.
Опускать руки нельзя. Ни в коем случае. Иначе все будет еще хуже. Перейдет в свободное падение.
Надо бороться. За каждое предложение, за каждое слово. Не уступать ничего. Ни единого слога, ни единого звука. Ведь если человек остается без языка, с чем он тогда вообще остается?
В течение десяти минут мы делали упражнения, Миша охотно выполняла все задания, но, кажется, запас ее сил иссякает.
— Вы хотите, чтобы мы остановились, Миша?
— Это не помогает.
— Да нет же, уверяю вас, это точно помогает.
Она задумчиво молчит. Мне знакомо подобное молчание, которое нередко предшествует рассказу о прошлом или даже откровению.
— Так грустно… Вы знаете… Я столько думаю об этом… ночами. Об обновке в газете. Но никто не отвечает. Я думаю о них. Вы представляете, три года… не говоря ни слова… никогда… Это было очень опасно, скажу я вам… Их могли… транспортировать… да, и их тоже… очень опасно… там был… маленький… водосток, куда мы ходили… купались… я помню… с собакой… у меня осталось несколько… таких… этих… что-то смутное… я бы так хотела… так… чтобы сказать им. Так грустно…
— Увы, Миша, я не улавливаю хода ваших мыслей. Вы говорите о своих родителях?
— Нет. Мои родители… они… в дыму.
— Их сожгли?
— Хуже.
Я не свожу с нее внимательного взгляда. Ее подбородок подрагивает.
— Вы их хорошо помните?
— Не отчим.
— В каком году вы родились, Миша?
— В тридцать пятом.
— Ваших родителей депортировали?
Миша кивает. Ее лицо искажается, точно от боли. И ни словечка в запасе, чтобы передать эти чувства.
— Они вернулись?
Она отрицательно качает головой.
Миша встает и направляется к ванной.
Трость она не берет, потому что в комнате чувствует себя уверенно. Помнит каждую опору. Под правую руку, под левую руку.
Я ничего не говорю. Я жду.
Из ванной слышится шум текущей воды.
Несколькими минутами позже Миша возвращается из ванной и снова присаживается рядом со мной. На ее лице улыбка.
— Она приходит не очень часто, знаете. Из-за обременения.
— Мари?
— Да. Доктор велел… Не расхолаживать туда-здесь.
— Скорее всего, у нее угроза выкидыша. Не следует рисковать ребенком. К счастью, вас по-прежнему навещает мадам Данвиль.
— Да, и еще у меня есть моя дорогая Арманд. В столовой мы с ней сидим за одной… столицей.
— Да, знаю эту даму. Она очень энергичная на вид.
— Арманд ходит чуть ли не на все занятости, но я… я… слишком…
— В самом деле, она принимает участие во многих занятиях. Но вернемся к вам, Миша: вы, можно сказать, скоро станете бабушкой! Разве это не здорово?
— Да, в некоем роду. Знаете, это странно… Как же объяснить… Есть такой… такая… вроде… шара, нет? Или такая… такой… — она чертит в воздухе круг, — …который принимает… форму… по кусочку… понимаете?
— Пока не очень. Опишите чуть подробнее, пожалуйста.
— Там есть такие… летали, которые соединяются друг с другом, как мо… музы…
— Мозаика?
— Да, вот-вот. У нее появляется смыслота. В самый подходящий момент. Когда человек пытается объяснить самому себе… потому что все стало таким ложным. Теперь понимаете?
— Думаю, да.
— А Мари? Вы с ней так и не попрощались?
— Не повстречались?
— Ну да.
— Нет, пока не повстречались, она редко приходит по будним дням, а я, если помните, никогда не бываю тут в выходные.
— Вы знаете, что она жила… в том же аэродроме, что и я, когда была… маленькой?
— Да, Миша, вы много рассказывали мне об этом в первые недели нашего знакомства.
— Вот как?
— Да, на наших первых занятиях. Вы поведали мне, что в детстве Мари жила в квартире над вами и что вы заботились о ней. В том же доме обитала и мадам Данвиль — консьержка, которая теперь регулярно навещает вас.
— Да, и приносит мне шоколадные конфеты. Она такая сли… славная. Знаете, она мне з… зву… каждый день. Каждое утро. И в дождь, и в снеговорот. Каждое утро, прежде чем приступить к своим дневным бедлам.
— Она вам звонит?
— Да, вот именно. Она звонила мне еще в те времена, когда я жила у себя. Каждый день, чтобы узнать, как у меня дележка. Представляете себе?
— Да, это очень трогательно. Она по-прежнему живет