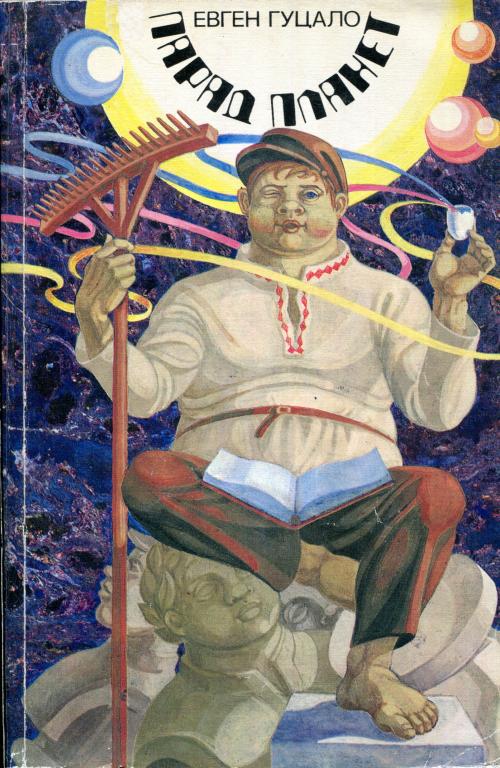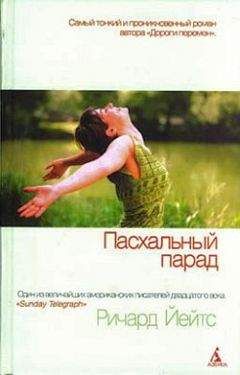него, где у древних египтян располагался потусторонний мир, Хома не замедлил бы с ответом, сказав, что у древних египтян тот мир находился на небесах, в золотом солнечном венце, а не в черных подземельях, а потому-то они и уважали солнечный диск, изображая его между двумя рогами, между двумя змеями и между двумя ладьями…
Ну вот, как видим, обличая в своем выступлении лицемерие источенных шашелем истории стародавних египетских религий во времена правления фараонов всяких династий, старший куда пошлют хитроумно стрелял из кривого ружья в религиозный огород современных хомопоклонников. А поскольку стрельбу из кривого ружья, может, и не всякий был способен понять, Хома прибегал и к вещам прямым и очевидным, как веревка, скрученная всемеро. Заканчивая лекцию, он сказал:
— Мои пращуры, когда пахали панскую ниву, знали, что до неба высоко, а до царя далеко, что все они под богом, одна только кобыла в упряжи. Им, богомольным, втолковывали так: родись, крестись, помирай — за все грошики давай. Про моего прадеда Грицка как в Яблоневке поговаривали? Что всего только раз и наведался чумак в церковь, потому что принудили, потому что поповы собаки загнали. И это, видно, был самый великий праздник, когда увидели прадеда Грицка в церкви. А прабабка Аришка была еще богомольней своего мужа Грицка, ибо тот без молитвы зашел в божий дом и без молитвы назад вышел, а прабабка Аришка всегда шептала одну молитву: «Верую, верую, по церкви бегаю, как бы двери найти да из церкви уйти». Дед Харитон тоже любил преклонять колени и перед богом, и перед чертом, повторяя на пасху: «На тебе, куцый, пасху, чтоб и ты знал, что пасхальный день». А его баба Явдоха, славная вышивальщица и кружевница, говорила: «Не хочу в рай, а хочу в пекло, потому как в пекле все теплей, а пойдешь в рай — дрова набирай». А что уж говорить про моего отца-бедолагу Хому, которому, видно, и сам черт был не брат, который так честил дореволюционного яблоневского батюшку Иллариона, когда тот наведывался на поминки или на крестины: «Попа да дурака в передний угол сажают». И этого самого батюшку Иллариона не моя ли родная матушка Варвара кропила-святила своим языком преподобным? Разве не высказала ему все на похоронах, когда хоронили бабу Явдоху? Высказала ему вот что: «Вы, отче Илларион, только и ждете, чтобы кто-нибудь помер, чтобы руки погреть. Разве вас в тот год за сердце не брало, когда в приходе мало людей помирало? Разве у вас каждый день ладонь не свербит? Никому не живется на свете слаще, чем вам, батюшко Илларион, и ледащему коту: обое лежите и даром хлеб едите!» Вот так высказалась мать Варвара, которая потом сносила попову злобу до гроба. А я пошел и в пращуров, и в предков, и в прадеда Грицка да прабабку Аришку, и в деда Харитона да бабу Явдоху, и в отца Хому да мать Варвару, которые знали, что бог не обернет порося на карася, кола на вола и сухой сучок на денег пучок. И я знаю, что бог милостивый — смиловался над раком и сзади ему глаза дал. Я вышел из этих чудотворцев и богомольцев, что святым кулаком да по окаянной роже, которые грех в мех, спаса в торбу, а духу в морду!
Грибка-боровичка слушали так внимательно, словно воочию видели, как растут на вербе груши, а на осине апельсины. А почему бы и не послушать, если услышанное не повредит ни псу, ни овсу! И когда Хома сошел с трибуны, на которой держался так важно, как тот макогон [4], великий хозяин в хате, к нему мокрым листком вдруг прицепился не кто-нибудь, а Диодор Дормидонтович Кастальский, директор школы, человек весьма ученый — он недавно отпустил себе усы, чтобы все замечать и на ус мотать.
— Вы, Хома Хомович, весьма башковитый человек, и странно, что такая умная голова так много волоса держит, — не удержался директор школы от лести, провожая грибка-боровичка по ночной Яблоневке, над которой мерцали зарницы. — Славно вы говорили и про мумии, и про усыпальницы, и про саркофаги. Конечно, нашему колхознику приходится только мечтать, чтоб его забальзамировали и положили в саркофаг, достойный его героического труда на земле или около скотины.
— Эге ж, забальзамируют! — ударился Хома в критиканство. — Да только саркофагов на всех не хватит.
— Вот я лишь с одним не могу согласиться, — вел дальше Диодор Дормидонтович. — Скажите, Хома Хомович, что это вы так от египетских богов открещиваетесь? И зачем вам было ругать священного козла? Или священную корову — богиню Хатхор? Или дразнить священных сокола, пчелу, коршуна, змею? Кажется, вы только и пожалели одного солнечного бога Ра…
— По совести говоря, Диодор Дормидонтович, тут не виновата ни богиня-корова, ни священные сокол, пчела, коршун да змея. Ни баран в образе бога Амона… — искренне признался грибок-боровичок. — Но я не мог не выступить с критикой, не мог! А почему? Чтоб не вязали меня с этой компанией, вот! У меня своя компания в колхозе «Барвинок» — с теми, у кого руки в горбатых мозолях.
— Да мало ли что про вас говорят в разных частях мира, Хома Хомович! Но в Яблоневке абы что не болтают, потому что все знают и на свой ус мотают.
— Пока что не болтают, но ведь в Яблоневке есть разные уши, с чужого голоса такое напоют! А я в одну компанию с богами не хочу, мне неплохо и с рядовыми членами колхоза «Барвинок». — Сначала Хома говорил спокойно, а тут его будто нечистая сила укусила. — А то ведь как может статься? Забальзамируют, положат в саркофаг, построят пирамиду аж до неба — и тогда попробуй докажи, что ты вовсе не фараон, а скотник!
— Хома Хомович, — урезонивал директор школы Кастальский, поражаясь тому, что рассудительный грибок-боровичок отказывается от своего счастья, словно утопающий от спасительной соломинки, — но ведь никто пока что вас не бальзамирует и в саркофаг не кладет. Вы ведь знаете, что в Яблоневке совсем иные обычаи.
— У меня в разных концах света развелось столько хомопоклонников! Разве не они с моим культом носятся, как черт с писаной торбой? А я не хочу, чтобы меня возносили на небо, мне и на земле около Мартохи неплохо!
— Да нет в Яблоневке таких, даже ваша Мартоха не хомопоклонница… То есть она хомопоклонница, конечно, только совсем на иной фасон, у