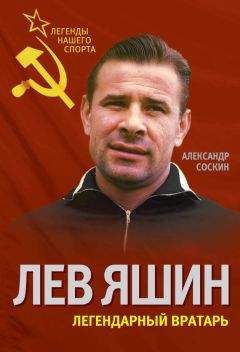Павел кончил писать, и неожиданно ему пришло на ум: а вдруг бабушка испугается, что на веранде он мерзнет, что кашлять начнет? И он хотел было зачеркнуть слова про веранду, но подумал и не зачеркнул: даже интересно, что бабушка из-за него может прослезиться. И, представив себе, как она будет охать и ахать, и сердиться и ругаться, он добавил в письме, что голова у него все еще болит. Ничего, пускай бабушка немножко испугается!
В поисках почтового ящика Павел вышел за деревянную ограду дома отдыха. В мокром песке, среди обнажившихся корней старой сосны, возились ребятишки, о чем-то разговаривали, спорили. Они не сразу заметили Павла, остановившегося над ними, и он услышал, о чем они говорят.
- Как это - охотником? На охоту ходят, когда уработаются до смерти. На охоту все ходят - и летчики, и моряки, и звездолеты. А кем ты будешь жить?
- Я все равно охотником буду.
- Это не жизнь.
- А я хочу всю жизнь спектакли ставить.
- Ну и ставь!
- А я никуда отсюда не уеду. Я всю жизнь буду отдыханцем.
- Кто тебе столько путевок даст? - неожиданно для ребят спросил Павел.
Мальчики вскинули на него глаза, но не испугались, потому что Павел не показался им настоящим взрослым. Один мальчишка ответил:
- Зачем ему путевки, он - сын здешнего директора.
Тогда Павел сказал уже по-взрослому, строго:
- Простудитесь тут. Идите домой! Зачем корни у сосны подрываете?
- Мы не подрываем! - дерзко ответил сын директора, малец лет пяти-шести в ярком шерстяном костюме-комбинезоне и прорезиненной куртке.
- Как не подрываете?
- Не твои корни!
Чтобы не унизить себя, Павел не стал спрашивать о почтовом ящике, а прошел мимо, словно перешагнул ребятишек. Им еще мечтать да мечтать о путевках в дом отдыха, а он уже отдыхает в нем, как все, и живет на всем готовом.
* * *
Одно тревожило Павла, что врач, старая женщина, не хотела его лечить, то есть не давала ему никаких лекарств. Не выписывала лекарств, значит, не признавала больным - как же иначе можно понимать ее? Так именно Павел ее и понимал. А если врач не считает его больным, то, спрашивается, зачем же его, молодого парня, сюда послали, за что ему бесплатную путевку дали? Конечно, врач об этом своем мнении либо скажет кому-нибудь, либо напишет, что еще хуже, и тогда Павлу больше уже не видать никаких путевок.
Такое предположение беспокоило Павла настолько, что он изо дня в день стал навещать врача и убеждать ее, что болен всерьез, а не как-нибудь, и что его надо лечить, несмотря на возраст, и что жалеть для него лекарства сейчас нельзя, иначе потом придется расходовать в несколько раз больше. Это ли не антигосударственная практика? Он так и говорил: "антигосударственная практика".
Как-то Павел узнал стороной про сердечные приступы и какие ощущения при них испытывает больной. В результате у него несколько раз произошли неприятности с сердцем.
Старушка на первых порах выслушивала все его жалобы, но потом стала отделываться от него шуточками, посылала выкупаться в холодной осенней воде, либо поиграть в волейбол, либо поухаживать за девушками - да, да! Посылала ухаживать за девушками. И Павел невзлюбил врача, эту старую несерьезную женщину.
Только ведь другого врача в доме отдыха не было. Были медицинские сестры, но разве без докторских указаний могли они хоть шаг ступить? Да, кажется, и сестры не относились к Павлу Мамыкину всерьез. По крайней мере, ни разу среди ночи, когда его донимала бессонница, сестры не вызывали врача к его постели. И Мамыкин рассердился и пригрозил сообщить о невнимательном к себе отношении директору дома отдыха, а главное - Людмиле Константиновне, в областной Совет профессиональных союзов.
Эта угроза произвела впечатление на дежурную няню, и когда однажды, глубоко за полночь, Павел вдруг забился в нервном припадке, она, всполошенная, бросилась прямо на квартиру к доктору, в дальний флигелек в парке, и забарабанила в дверь, потом в окно, потом опять в дверь, вопя: "Человек умирает!"
Павлу приснился страшный сон с участием всех главных нечистых сил сразу, от страха он дико закричал и проснулся, когда простыня была уже основательно подмочена. Страх сменился стыдом, поэтому Павел продолжал кричать и визжать даже после того, как проснулся, затем упал с кровати и забился в истерике на полу. Повскакавшие спросонок соседи попытались его поднять с полу, но парень стал драться, и они робко топтались вокруг, не зная, чему верить, чему нет и что они обязаны делать в таких случаях.
Разбуженная воплем няни старушка врач, не зная, к кому ее зовут среди ночи, кто умирает, разволновалась больше, чем ей было положено, с трудом и кое-как оделась и почти бегом кинулась через весь парк в главный корпус. Поднявшись на второй этаж гораздо быстрее, чем ей самой разрешалось по состоянию здоровья, и увидев на полу ругающегося и хрипящего Мамыкина, она сразу заподозрила симуляцию. Гнев отнял последние силы у ее больного сердца, и срочная помощь потребовалась ей самой.
* * *
Голова у Павла действительно побаливала, но не так сильно и не так часто, как он любил об этом говорить. Через месяц, вернувшись домой, он сказал о головной боли бабушке и еще о том, что у него время от времени покалывает в боку, и есть кашель, и опять бывает насморк, и бабушка не отпустила его в город на ученье, а принялась лечить по-своему.
В избу затащили деревянный бук - кадку почти в рост человека, в которой можно и пиво варить, и белье бучить, и поставили между печным челом и кухонной заборкой. Павел сам носил с колодца воду, а бабушка кипятила ее в чугунах и в самоваре и сливала в кадку. Кадку она прикрыла половиками и полушубками в несколько слоев.
- В этом чане, Пашута,- говорила она,- я не раз твоего батьку лечила. И дедушку лечила. Приедет, бывало, дед из лесу, из деляны, в страшный мороз або со сплава, ледяной насквозь, что тебе кашель, что хрипота в грудях, и горлом глотать не может, а я его в баню, в вольный дух. Парю день, парю два - у самой сил уж нет, а немочь из него никак не выпарю. Ну тогда сажаю его в чан, на бук, да и кипячу под ним воду, а потом дам выпить стаканчик-другой перегару або водки - все немочи как рукой сымает. Да что немочи - любая лихоманка от такого пользования не устоит. Каюсь, грешная, матерь твою лечила не тем, надо бы и ее на бук посадить сразу, ни одного пупыша на теле не осталось бы. Опоздала я, окаянная! Все пупыши у нее были от простуды, простуду каменьями выпаривать надо - люди дольше жить будут. Вот сейчас я тебя попользую, ты уж на меня надейся.
В печи, в березовом жару, камни доходили до белого каленья - не один десяток булыжников. Бери их, шипящие, вилами по паре и стряхивай в кипяток на дно кадки, чтобы заклокотало, забурлило, чтобы пар приподнимал над головой болящего половики и овчины.
Бабушка заранее поставила в кадку высокую табуретку и придирчиво осмотрела, высоко ли она стоит над водой,- не дай бог обжечь парня, когда вода закипит.
Павел не раз слыхал, как лечат людей на пару, и относился к бабушкиному колдовству с полным доверием.
- Полезай, Павлуша! - сказала она наконец, заглянув в печь и убедившись, что камни достаточно раскалены.- Раздевайся!
Павел разделся за печкой догола и, стыдливо прикрываясь, пододвинул скамейку к кадке, чтобы забраться в нее.
- Будто газовая камера, бабушка.
- Какая такая?
- Ну, душегубка.
- Ты, соколик, неладно сделал. Подштанники надень на себя и рубаху нижнюю не сымай, брызгать будет. Да ноги под себя на табуретке подожми. И дыши паром, первое дело - дыши паром. Пар, он от всех недугов пользителен.
- Ладно, бабушка!
Когда Павел с головой укрылся в кадке, старуха достала с верхней полки-поднебицы глиняный горшок с мелко нарезанной вяленой травой вроде крапивы и темно-зелеными шишками хмеля, высыпала содержимое на белую тряпицу, посолила для силы, старательно перемешала, что-то шепча, и, оглянувшись, не следит ли за ней внучек-безбожник, перекрестила и стряхнула все это к нему под ноги в кадку. Затем она выгребла из печи клюкой румяный, в искрах, ставший почти прозрачным камень и, накрепко зажав его угольными щипцами, перенесла и опустила в воду под ноги Павлу.
- Держись, Павлуша! Блаослови, осподи!
Павел испуганно сжался, сдвинулся в сторону. Камень словно бы взорвался под ним, вода раздалась, сердито заклокотала, белый пар повалил клубами. Бабушка наглухо закрыла кадку. Второй камень обдал жаром лицо и босые ноги Павла, ему стало страшно - вдруг каленый орешек упадет на колени или просто коснется тела. Не успеешь закричать, а бабка замурует тебя - и все. И ничего не будет слышно в этом клокотании - ни стопа, ни рева.
Вот опять на мгновение появился просвет над головой, мелькнуло в тумане красное лицо старухи, и новое ядро взорвалось под ним. И снова он один в темноте, в жаре, как в кратере вулкана, как на сковороде у сатаны. А бомбардировка продолжается, а жар увеличивается, дышать все труднее.