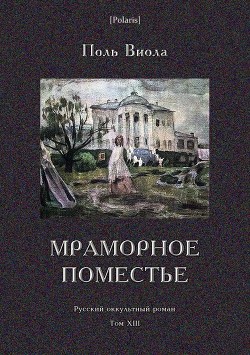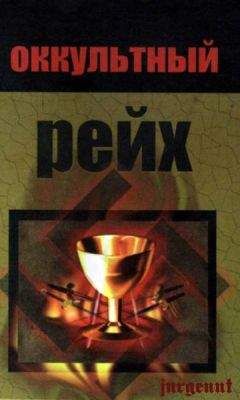Мне становилось на душе тихо, сладко и холодно от какого-то волнения. Я забыла все, все. Только одна мольба захватила мою душу: «Анютка, Анютка, родная моя, возьми меня туда, в эту страну, куда ты ушла от нас, куда несутся эти звуки, где надежда и утешение…»
И пока хор пел, и набожно крестилась толпа, и горели яркие свечи, было тише на душе.
Потом я вышла на улицу и здесь, кажется, потому, что было темно, в голове моей вдруг страшно ярко всплыло то, что меня мучило. Вот он подает ей ротонду и что-то быстро говорит. Он смотрит на нее! Как он смотрит?
— Нет, нет, это не те слова, это не он, этот, другой, которого я не знаю, которого я никогда не любила и теперь не люблю. Правда, Анютка?..
Я отогнала эти мысли и вспомнила лампады и лики святых в ярко озаренной церкви и ясный, высокий, как золотой крест, голос херувимов, и через темные, грязные улицы несла его в душе.
Но чем ближе я подходила к дому, тем тусклее он становился. Вот сейчас темный наружный коридор и дверь прямо в мою комнату.
Когда я вошла, едва поднявшаяся луна освещала ее странным, медным, зловещим освещением. Мне стало жутко, я зажгла свечу, присела на скамеечку возле кровати и заплакала. Почему я плачу? Разве я не хотела этого, разве не искала любви человека, который бы жил в том мире, потому что только там и возможно счастье. Разве счастье не требует красоты, напряжения всех струн души, разве не потому оно является минутами, когда звучат все самые красивые струны? Разве можно быть всегда желанной и красивой? Почему же теперь мне хочется быть всегда возле него, чтобы всякая мелочь была моя?
— Эрик, дай я приберу на твоем столе; я уйду от тебя, Эрик, только для того, чтобы рассказать тебе, что со мной будет за это время, только для того, чтобы скорее вернуться к тебе… Хоть бы я знала, что ты еще придешь, Эрик.
Потом мысли мои стали путаться. Опять у меня был жар, и опять музыка «Пиковой дамы» звучала во мне. После того вечера у меня часто жар, и всегда мелодии и образы «Пиковой дамы» неотразимо преследуют меня. Должно быть, я долго была в этом состоянии, потому что даже не заметила, как догорела свеча, и луна озаряла комнату яркими полосами света.
Я не помню, как сбросила свое платье и надела летний батистовый капот. Должно быть, мне было жарко.
Вот запела виолончель: «Я имени ее не знаю», и вошел Герман. Эрик, это он, как тебе хорошо в офицерском… Где я видела твое платье и, кажется, твое лицо? Я припоминаю: это у нас, в Мраморной комнате. Так это ты был, Эрик: я ведь тогда сразу почувствовала, что ты живой, но почему я не могла видеть твоего лица? Что мне мешало?
— Три карты, три карты, три карты…
Какие карты? Кто это говорит? Это ты, Анютка?
— Барышня, — шепчет Анютка, и мы с нею находимся в комнате Лизы, — барышня, сейчас придет ваш суженый, титулованный, я побегу…
— Зачем ты так говоришь, Анютка! Не уходи…
— Нет, вам не разойтись без встречи, — шепчет Анютка, тушит свечу и убегает.
Что это? Я, кажется, очнулась, ведь это моя комната освещена луной. Нет, скрипки торопятся, он сейчас придет.
Вот он. Он должен остановиться в дверях, потому что звук остановился и еще не отзвучал.
— Остановитесь, умоляю вас.
— Я не уйду, Эрик. Я не Лиза, я — Станка. Ты слышишь: оркестр волнуется, как море.
Дай умереть, тебя благословляя,
А не кляня!
Могу ли день прожить, когда чужая
Ты для меня?..
— Как ты чудно поешь, Эрик. Ты не умрешь, мы уйдем на юг с тобой… Слышишь, море шумит? Что нам может помешать?
— Три карты, три карты, три карты!..
— Не бойся: это Анютка. Анютка, зачем ты его пугаешь? Анютка, где ты? Где ты, Анютка?
— Я здесь, барышня, в другом мире.
Боже, как хорошо! Анютка сидит над самой водой на небольшой светло-серой красивой скале, сверху ровной, как стол. Берег моря и белая пена. Кругом уступы гор и много-много света. По берегу моря дорожка уходит куда-то далеко. Наконец-то я здесь!..
Анютка гадает на картах.
— Анютка, где же Эрик?
— А вот сейчас я скажу, барышня, — отвечает Анютка, бросая карты.
— Тройка… семерка… туз! Вот он, барышня, глядите.
Я смотрю на дорожку. Вот он идет. Какой красивый в форме, как он торопится. Это потому, что скрипки торопятся. Я слышу его шаги…
Я очнулась, мой бред прошел, но я слышу шаги в коридоре. Дверь отворяется. Он останавливается на пороге. Ведь я не грежу. Это он.
— Эрик!
Я боялась верить своей радости, но, поверив, бросилась и прижалась нему. Он подвел меня к окну на лунный свет и опять, как тогда, всматриваясь своими зачарованными глазами, своим странным, приковывающимся, напряженным взором, несколько раз спросил:
— Это ты, Станка?
— Я, я, Эрик. Я ждала тебя все эти дни.
Его руки скользили по моему телу, точно он хотел убедиться, что не призрак перед ним.
— Милый, как ты нашел меня?
Я потянулась к нему и положила руки на его плечи.
— Мне снился сон, тяжелый сон, Станка:
Мне снилось, стоял я над самою кручей,
Река мне казалась вся сталью,
А сверху огромные туча над тучей
Слоились свинцовой спиралью.
— Как ты красиво говоришь, Эрик. Ведь это стихи. Но почему ты такой бледный, измученный?..
Но он не отвечал мне, а продолжал медленно, не глядя на меня, точно разговаривая сам с собой и припоминая:
Был вечер осенний, как сказка, прекрасный,
Янтарный кругом у кургана.
И только закат, словно зарево, красный
В лохмотьях был страшный, как рана…
И галки летели… Летели с заката,
И в дали, пока приближались
На ране кровавой небесного ската,
Казалось, как черви толкались…
Выражение напряженного отвращения было у него на лице.
И вот подлетели и стали вулканом,
Как черные камни, взлетать над курганом,
И черные круги сжимали все ближе,
И, с криком взлетая, все падали ниже…
Он схватил меня за руку и с испугом оглянулся, точно видел еще стаю галок вокруг нас. Сердце у меня сжалось, потому что опять я слишком ясно почувствовала в нем что-то больное и жалкое. Он продолжал шепотом, точно хотел хорошо выяснить мне свои ощущения:
И было мне страшно… И взмахами палки
Я стал отгонять их, но злобные галки
Вступили со мной в безобразную битву…
В смятенье хотел я припомнить молитву
И крикнул: «Чего же вам надо?..»
Эрик нагнулся ко мне и, видимо, очень взволнованный, озирался и говорил быстро:
И тут-то всей тучей.
Огромной и начерным кругом кипучей,
Все бросились, сжали живые спирали.
Удары посыпались сталью кривой…
Он с ужасом отчеканил это выражение.
И ярые, жадные птицы кричали:
«Нам падали — крови гнилой!
Мертвых готовим для мертвого мира.
Бейте удар на удар,
Сердце гнилое для нашего пира.
Сердце нам, мертвый фигляр!»
И сердце искали кривыми крючками!..