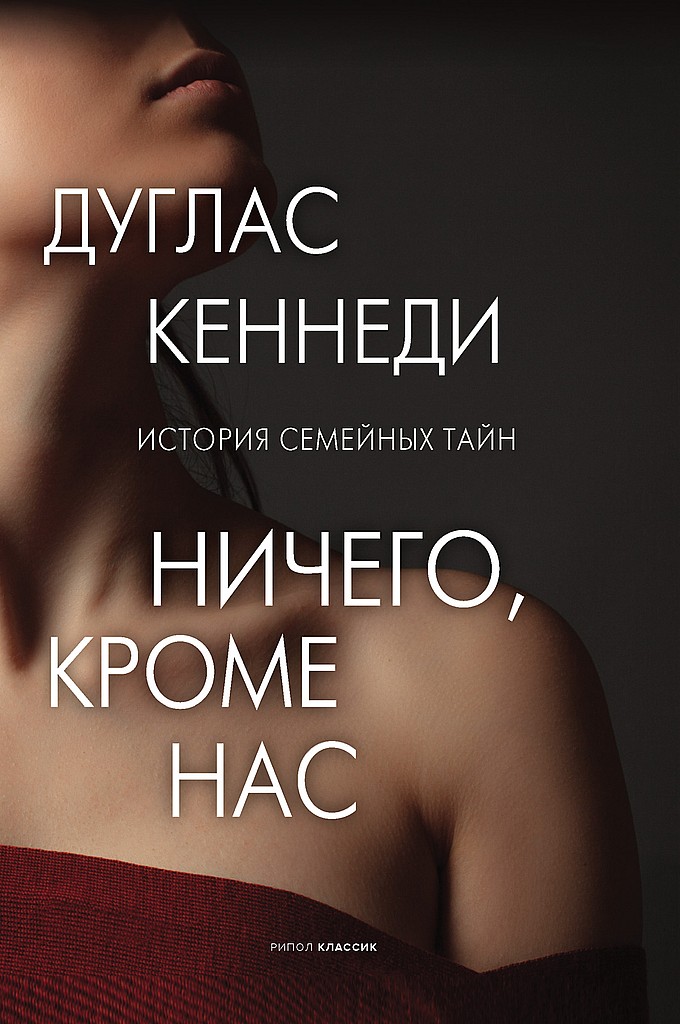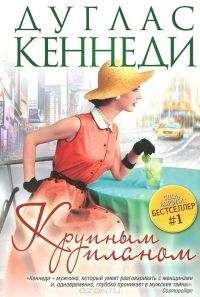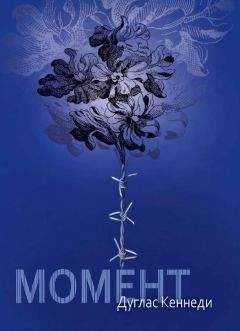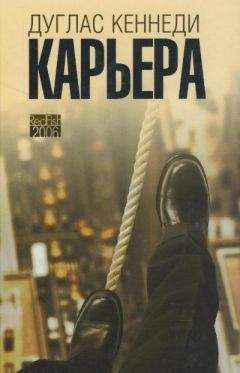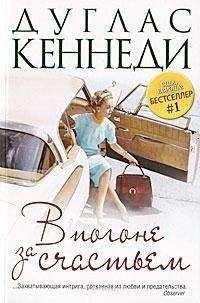бы мог замерзнуть насмерть. Счастливчик! Из такой мясорубки выбрался живым». Только я-то себя счастливчиком не чувствовал. Мне тогда умереть хотелось…
Адам потянулся за следующим печеньем и проглотил его, не жуя.
— Когда меня привезли в реанимацию, я слышал, как врачи обсуждают, что у меня вся грудь в кровоподтеках, и гадают, как же это произошло, если я сидел на пассажирском сиденье. Но у меня было такое сотрясение, что трое суток меня накачивали наркотиками, чтобы мозг пришел в себя. Капельницу поставили, чтобы не было обезвоживания. Когда я снова пришел в себя, рядом с моей кроватью сидел папа. Медсестра убедилась, что я в сознании, и после этого он спросил, нельзя ли ему побыть наедине с сыном. Когда медсестра вышла из палаты, он наклонился ко мне и зашептал: «Ты правильно сделал, что вовремя сориентировался. Из-за сломанных ребер и врачи, и полицейские догадались, что за рулем был ты. Но обе машины сгорели чуть ли не дотла, а кроме того, тот парнишка цветной и вроде как сидел на месте водителя… И я постарался, сразу привез сюда Уолтера Бернстайна, умного юриста-еврея из Нью-Йорка… словом, дело уже закрыто. Машину вел твой товарищ по команде. Ты спал на сиденье рядом с ним. Он не справился с управлением. Врезался в автобус хиппи, погибли они сами и их ребенок. Ты был без сознания. Очнулся, когда машина уже была готова загореться. Сумел выбраться незадолго до того, как оба автомобиля взорвались. Ты потерял сознание в снегу. Нашел вас какой-то дальнобойщик. Вот и вся история. Ты понял? Все было так, как я только что рассказал, и никак иначе. Так все и останется. Мы все уладили с врачами, полицейскими, страховой компанией. Все согласились с тем, что все произошло именно так, и утвердили официальную версию. Считай, что тебе повезло. Чертовски повезло! Знай, ты передо мной в большом долгу. Но запомни главное: мы больше никогда это не будем обсуждать». И правда, мы с ним никогда об этом не заговаривали.
Молчание. Которое тянулось очень долго. Адам так и стоял ко мне спиной, не отрывая взгляда от стены.
Первой заговорила я:
— Значит, спустя пятнадцать лет ты решил все это выложить мне. И, делая это, ты настаиваешь на том, чтобы я разделила с тобой эту тайну и сохранила все в секрете.
— Можешь всем рассказать, если хочешь.
— Не собираюсь я никому рассказывать. За последние годы ты навлек на свою голову достаточно неприятностей. Но я должна тебя спросить: кто еще, кроме пастора Уилли, об этом знает?
— Никто.
Я обшарила глазами все углы мрачной комнатушки, пытаясь разглядеть камеры или микрофоны. Как будто нет. И все же, прежде чем снова заговорить, я понизила голос до шепота:
— Так пусть и остается. Не слушай своего проповедника и не вздумай еще с кем-то поделиться этой историей, если, конечно, не хочешь, чтобы дело вновь открыли, а ты оказался на скамье подсудимых. Только на этот раз тебя обвинят не только в убийстве по неосторожности, но еще и в подкупе ответственных лиц, а семья Фэрфакса может поднять такое, что ты и правда пожелаешь, что не погиб тогда. Ты уверен, что пастор Уилли будет молчать?
— Он всегда уверяет, что все, о чем мы говорим наедине, остается между нами, что он большой специалист по хранению «вечных тайн».
И готова поспорить, что у пастора этого, как у очень многих сверхнабожных людей, наверняка имеются собственные страшные тайны.
— Ну, твои секреты носят глубоко временный характер. Поэтому… я намерена забыть, что слышала этот рассказ.
— Сейчас ты говоришь совсем как папа.
— Я кто угодно, только не наш отец.
— А почему же сговариваешься со мной точно так же, как он много лет назад?
— Потому что мы, увы, родственники. И из этого следует, в частности, что теперь мне придется как-то жить, зная то, о чем ты мне поведал.
— Даже несмотря на то, что минуту назад ты обещала забыть все, что слышала?
— Это было бы слишком просто. Я никогда не забуду эту историю. Но никогда не стану ее обсуждать. И учти, я очень жалею, что ты мне все рассказал.
— Ты должна была знать. Это же про нас. Про то, что мы такое.
Но тут же, оторвав взгляд от потрескавшихся потолочных панелей и люминесцентных ламп, Адам уставился на меня, будто снайпер, нашедший свою цель.
— А ведь ты теперь замешана, — произнес он.
Да, так оно и было. А на обратном пути в город, когда голова моя шла кругом от мыслей обо всем, что только что открылось, меня посетила другая мысль: это секрет, который я никогда никому не открою. Ни матери. Ни, разумеется, Питеру. Ни Хоуи, потому что, хотя ему я доверяла безоговорочно, тайна, которой делишься, перестает быть тайной. Однако, когда мой поезд прибыл на Гранд Сентрал и я пересела на метро до Лексингтон-авеню, я пересмотрела данное себе обещание не рассказывать об этом никому. Выйдя из метро на Астор-плейс, я прошла два квартала на восток до Второй авеню и Одиннадцатой улицы улице и вошла в многоквартирный дом постройки двадцатых годов, в который только что переехал Дункан. Поднялась на лифте на одиннадцатый этаж и вошла в его квартиру.
Пока Дункан разъезжал по Северной Африке, его близкому другу и коллеге, который потерял место в Нью-Йоркском университете, предложили должность доцента в Висконсине. После недолгих переговоров и небольшой взятки Дункан получил возможность за весьма умеренную плату занять его квартиру с двумя спальнями, с окнами, выходящими на восток, в сторону Алфабет-сити [162]. Через неделю после его появления на моем пороге Дункан вручил мне связку ключей и сказал, что теперь его дом и мой тоже. Я, в свою очередь, отыскала в битком набитом ящике письменного стола связку ключей и отдала ему со словами, что моя квартира в его распоряжении.
Началась наша совместная жизнь, но с уговором, что не менее года мы не будем отказываться от отдельных квартир, чтобы получить возможность постепенно притереться друг к другу, имея необходимое личное пространство. При этом как-то сразу так сложилось, что мы проводили вместе практически каждую ночь. Стоило одному из нас войти в квартиру другого, как мы почти сразу оказывались в постели.
— Как ты думаешь, у твоих родителей тоже так было? — спросила я у Дункана в тот вечер, свернувшись калачиком в его объятиях и деля с ним бутылку пива, которую он нашел в холодильнике.
— Вначале наверняка была какая-то страсть, — сказал он. — Но потом что-то