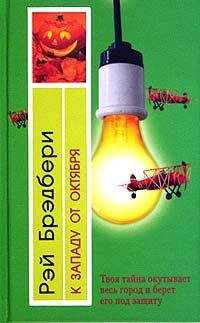когда наша четверка оказалась на платформе, часы показывали уже половина двенадцатого. Мы стояли посреди пустого зала и ждали, чей поезд придет раньше. Андрюха, как всегда, хохмил и прикалывался, остальные умирали со смеху. Мне повезло первой. Ребята посадили меня в вагон и стали прощально махать руками, а состав почему–то никак не отправлялся, и это вызвало у нас новый приступ веселья. Наконец, двери закрылись и последнее, что я тогда запомнила, был Сережкин жест рукой: «ну, типа, увидимся».
***
Да, я действительно оказалась в этой организации случайно.
Родители мои поженились очень рано. Матери едва исполнилось восемнадцать, а отцу девятнадцать, я появилась на свет через четыре месяца после их бракосочетания. Вместе они продержались пять лет. Это был рекорд, учитывая абсолютную противоположность натур и взглядов на жизнь. На меня их развод не оказал никакого влияния, поскольку все это время я жила, в основном, у бабушки и родителей воспринимала чисто номинально. Сразу после развода мать вышла замуж второй раз за мужчину вдвое старше.
Он был директором музыкального театра. Матушке его солидность очень нравилась, и она с энтузиазмом стала вести жизнь заботливой жены и радушной хозяйки, а я оказалась в балетном училище. В доме у нас постоянно толпилась куча народу, и велись разговоры о репетициях, концертах, гастролях. Так продолжалось три года, потом матери это надоело, и она ушла от музыканта к физику.
Мой второй отчим мне нравился. Он был добрым, веселым человеком и, если у него выдавался свободный денек, а это бывало, весьма, не часто, мы обязательно куда–нибудь шли. В цирк, в зоопарк, на аттракционы или просто бродили по улицам. Дядю Славу я любила, а вот физико–математическую школу, в которую меня насильно засунули, терпеть не могла. Я люто ненавидела математику. Кроме того, меня зверски угнетало общество одноклассников, состоящее сплошь из занудных «ботаников». Мучения мои продолжались четыре года. На этот раз я испытала все прелести родительского развода. Многомесячные скандалы с битьем посуды, выяснение отношений с криком и истериками. Зрелище незабываемое! Когда всё, наконец, закончилось, я вздохнула с облегчением.
Рано радовалась! Не прошло и недели, как в доме появился очередной кандидат на должность мужа, художник. Мне было позволено перейти в обычную школу, но теперь я должна была учиться рисовать. До сих пор не понимаю, как им удалось уговорить преподавателей принять меня в художественную студию. Способностей моих едва хватало, чтобы кое–как изобразить рахитичный домик, который скорее был похож на заячью нору, чем на человеческое жилище. Но посещать студию мне нравилось. Ребята там были просто супер, постоянно что–нибудь придумывали, в общем, жили весело и прикольно. И даже, когда через десять месяцев мамаша выставила художника за дверь, (она застала его в мастерской с двумя натурщицами, все трое были абсолютно пьяны и, мягко выражаясь, неодеты) я из «художки» не ушла. Тем более что, матушка через пару месяцев нашла себе новую любовь и отвалила с ним на Ближний Восток, то ли строить чего–то, то ли продавать. А незадолго до этого, она определила меня к своей знакомой, профессиональной переводчице, учить иностранный язык, причем, сразу два немецкий и почему–то итальянский.
После отъезда матери мне пришлось переехать к отцу и его второй жене. Честно говоря, я побаивалась этого переезда. Отцовскую жену я совсем не знала и в голове все время крутились страшилки про злобную мачеху, но тетя Катя оказалась мировой теткой. Родом она была из–под Тамбова, в Москву приехала сразу после школы, а к тому моменту, как мы встретились, они прожили с отцом уже почти шесть лет.
Где они могли познакомиться? Ума не приложу. Настолько это были разные люди. Отец интеллигентный, образованный, театрал, обожающий литературу и живопись, и тетя Катя вся такая домашняя, с особым деревенским выговором и неправильной речью. Вместо «купила» она говорила «взяла», вместо «последний»–«крайний». Обожала индийские фильмы и ничего не читала, но доброты была необычайной. Она никогда не отмахивалась от меня, как от назойливой мухи, какую бы я чушь не несла, садилась и внимательно слушала, а еще она замечательно пекла. По субботам я просыпалась от запаха свежих, только что вынутых из духовки, пирожков.
У тети Кати был сын Дмитрий, старше меня всего на полгода. Родного отца он не знал, поскольку родила его тетя Катя, как она сама говорила, от собственной дурости, и, поэтому, считал моего отца «своим». Впрочем, мой отец тоже так считал. Мы с Димкой здорово подружились, хотя и дрались постоянно. Взрослые никогда не вмешивались в наши разборки, только иногда за ужином отец пристально смотрел каждому из нас в глаза, а потом переводил взгляд на жену. Та обычно махала рукой, как бы говоря, сами, мол, разберутся. Так, в конечном счете, и было. Но дрались мы с Димкой только дома, на улице и в школе я находилась под его постоянной защитой. Это было счастливое время, целых три с половиной года. А потом тетя Катя сильно простудилась и заболела. Болезнь прогрессировала, а мачеха не обращала внимания, в результате ее увезли в больницу, когда уже начался отек легких и через неделю она умерла. Это было первое большое горе в моей жизни. Хотелось орать и биться головой о стену, а я лишний раз даже поплакать себе не могла позволить, рядом были отец и Димка. Такие несчастные и раздавленные, что, глядя на них, у меня сердце останавливалась. Если бы не бабуля, кстати, бывшая папина теща, я даже не знаю, что было бы. В день похорон неожиданно явилась матушка и заявила, что забирает меня к себе. Я пыталась возражать, говорила, что отцу сейчас трудно, что ему нужна поддержка, но она настаивала, и мне пришлось подчиниться. Я вернулась на старое место жительства, а бабуля переехала на мое место к отцу.
То, что у матери был новый муж, меня ни сколько не удивило. Дядька оказался довольно странный. По паспорту он значился Евгением, но именовал себя исключительно Евпатием. Имел длинные до плеч волосы и бороду. Носил широченные брюки странного покроя, рубаху навыпуск, а поверх нее надевал плюшевый жилет неопределенного цвета. И все время говорил о попранной русской идее, об утрате народом своих корней, о православии, о том, что всем нам следует покаяться и очистить душу. Окна в квартире теперь были всегда зашторены, в комнатах стоял сумрак. Пищу Евпатий с матушкой потребляли исключительно растительную, истово соблюдали все посты и благоговейно отмечали церковные праздники. Первый раз в жизни я по–настоящему струхнула. Памятуя прошлые матушкины любови и, следовавшие за этим, причудливые зигзаги моей биографии, я