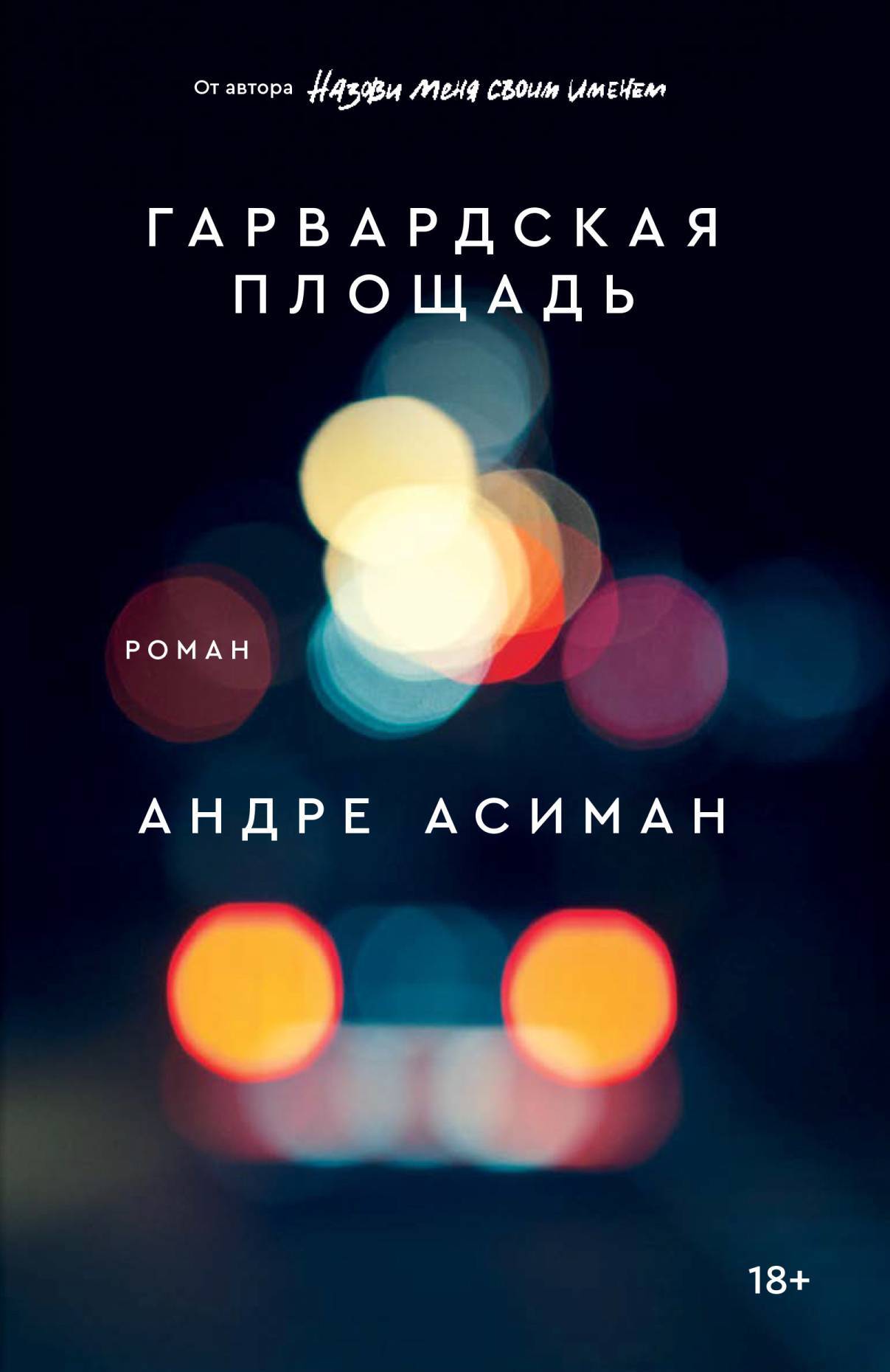Показывая ему город, я постоянно думал о том, каково это – гулять с отцом, глядеть, как он останавливается в разных местах, которые для тебя ровным счетом ничего не значат. Выслушиваешь разные подробности про его аспирантскую жизнь задолго до встречи с твоей мамой и не можешь, да и не хочешь никак примерить это на себя; возможно, тебе слегка стыдно, что ты не в состоянии даже изобразить интерес, который отец так старательно в тебе пробуждает. Все, что он видит, будто погружено в душную бадью ностальгии, а прошлое, пусть щеки у него и румяные, неизменно издает этакий неприятный затхловатый запашок старых курительных трубок и заплесневелых комнат, которые сто лет как не проветривали. Я попытался рассказать ему про Конкорд-авеню и Прескотт-стрит, на которых жил тоже, но это было все равно что пригласить его вместе со мной подстричься в моей любимой парикмахерской на Данстер-стрит. Он мне потворствовал, но не более. А самому все равно. Попроси я, он бы ответил: «Мне вообще еще рано стричься».
Я сказал, что знаю одно место, где делают отличные бургеры.
– А ты уверен, что оно не закрылось?
В голосе вновь – насмешка и налет иронии. Он уже услышал от меня, что за тридцать лет многое переменилось: не расположение улиц или магазинов, но сами магазины, их навесы и шатры, а может, и само ощущение от этого места. Гарвардская площадь сделалась меньше и казалась тесной, запруженной народом. Построили новые здания, а кинотеатр на площади, как и многих его собратьев по всему миру, выпотрошили и четвертовали. И даже непреклонный «Кооп» – сокращение от «Гарвардское кооперативное общество», – большой универсальный магазин, расположенный прямо на Гарвардской площади, сильно изменился: солидную его часть превратили в магазин для приезжих, торгующий университетской символикой. Я до сих пор помнил свой кооповский номер. Я назвал ему свой кооповский номер.
– Да, знаю, знаю, – поспешно добавил я в торопливой попытке предотвратить очередное бурчание, – магазин как магазин.
Как и многие родители, которые когда-то и сами здесь учились, я очень хотел, чтобы сыну понравился Гарвард, но настаивать не пытался из страха, что он вовсе вычеркнет его из списка. Часть моей души хотела, чтобы он пошел по моим стопам. Его, понятно, это бесило. А может, мне самому хотелось еще раз пройти по собственным стопам, но уже его ногами. Это его взбесит еще сильнее. Идти по папочкиным стопам в качестве папочкиного двойника, чтобы папочка поквитался с прошлым! Я так и слышал его слова: «Только этого мне во время такой поездочки и не хватало».
Мне хотелось разделить с ним и вернуть себе все открыточные моменты своего прошлого: тот день, когда я перешел через мост в снегу, пока друзья бежали через замерзший Чарльз, а я думал: «Какие безбашенные»; мое первое посещение возлюбленной Библиотеки Хаутона: как я ждал, пока библиотекарь выдаст мне первую мою редкую книгу, написанную мадемуазель де Гурне, приемной падчерицей Монтеня; пожилое лицо давно покойного Роберта Фицджеральда, который научил меня столь многому в немногих словах; последний бокал вина в баре «Харвест» – и сжимающее горло нежелание идти на занятия в студеный ноябрьский день, когда больше всего хотелось свернуться где-нибудь с книгой и отпустить мысли на свободу. Я хотел вместе с ним пройти по мощеным переулкам к реке и в один зачарованный миг охватить взором красоту укромного мирка, который обещал мне так много и в итоге даровал гораздо больше. Постройки, дуновение ранней осени, голоса студентов, каждое утро набивающихся в аудитории, – мне страшно хотелось, чтобы он откликнулся на этот зов и встал на этот путь.
Наконец мне хватило духу спросить, как ему увиденное.
– Ничего.
А потом неожиданно он вернул мне подачу и задал тот же вопрос. Нравится мне тут?
Я ответил – да. Очень.
Зная, что говорю о прошлом.
– Гарвард я полюбил потом, а не в процессе.
– Поясни.
– Жизнь тут была нелегкая, – ответил я, – причем я имею в виду вовсе не учебу, хотя учились мы много и требования были высокие. Трудно было жить той жизнью, которую предлагал мне Гарвард, и не думать при этом о том, что это мираж. С деньгами было туго. Выпадали дни, когда грань между поесть или не поесть выглядела не черточкой на песке, а скорее оврагом. Смотришь на вечеринку, даже слышишь ее – а самого тебя не пригласили.
Тяжелее всего, пытался я сказать, помнить о том, что тебя пригласили.
Я был чужаком, молодым человеком из Александрии Египетской, неизменно озадаченным, рьяно стремящимся стать своим в этом странном Новом Свете.
Об остальном я не хотел думать, не хотел вспоминать, а уж тем более рассуждать прямо сейчас. Кроме того, воспоминания о моем гарвардском «в процессе» до сих пор были запрятаны в дальний чулан – нет, вовсе не забыты, а как бы отнесены на ледник дожидаться особого дня из дальнего будущего, когда найдутся силы и досуг до них добраться. Сейчас не время. Сейчас я хотел вытащить на свет волшебство этого ощущения любви задним числом, ибо оно оставалось со мной все эти годы и тянуло меня назад в те времена, о которых я сильно скучал, но про которые твердо знал: проживать их заново мне не хочется вовсе. Возможно, именно это ощущение «любви задним числом» и подтолкнуло меня совершить с сыном эту одиссею по колледжам, потому что меня страшно тянуло вернуться в Кембридж – пусть сын будет моим щитом, моим прикрытием, моим двойником.
Как объяснить все это семнадцатилетнему юноше, не сломав при этом карусель образов, которыми я делился с ним еще в его дошкольные дни? Кембридж в тихие воскресные вечера; Кембридж в дождливые послеполуденные часы, с друзьями, или в метель, когда жизнь продолжала идти своим чередом, а дни казались короче и праздничнее, и хотелось одного: вообразить, что у ворот привязаны в ожидании лошади, которые отвезут тебя в страну Итана Фрома; суета