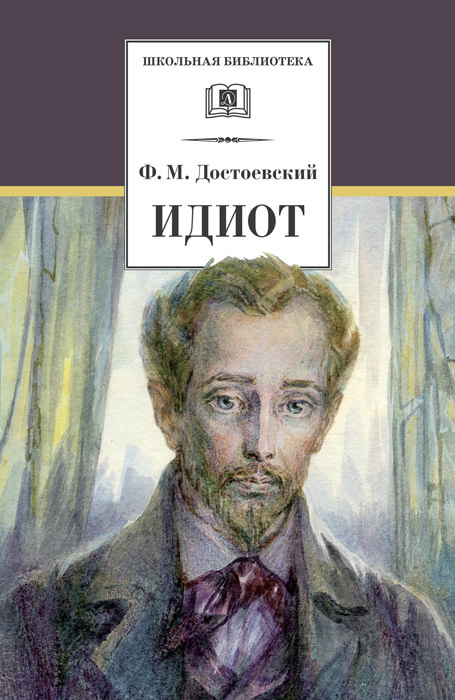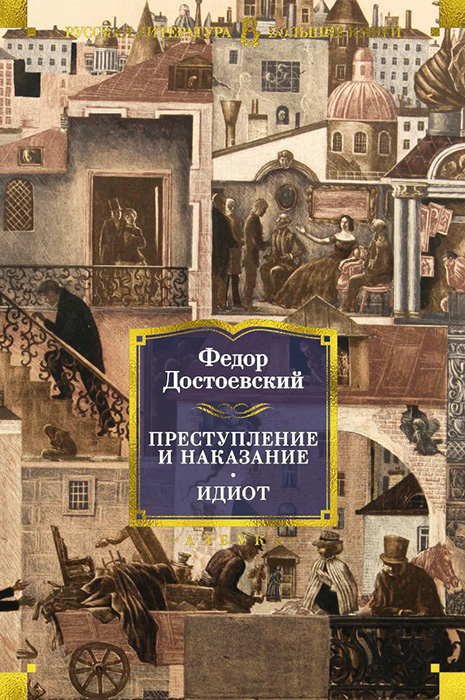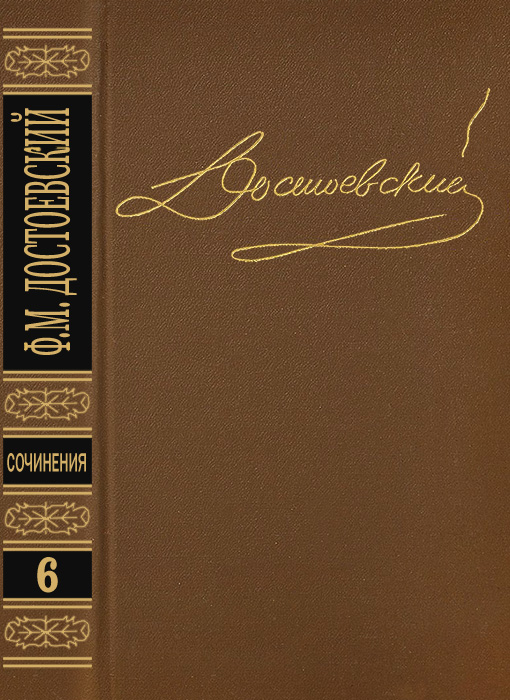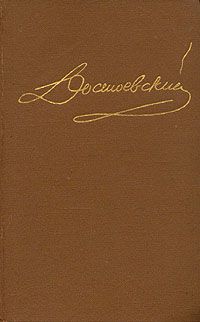про себя подумал дорогой, что она не захочет потихоньку входить, – куды! Шепчет, на цыпочках прошла, платье обобрала около себя, чтобы не шумело, в руках несет, мне сама пальцем на лестнице грозит, – это она тебя всё пужалась. На машине как сумасшедшая совсем была, всё от страху, и сама сюда ко мне пожелала заночевать; я думал сначала на квартиру к учительше везти, – куды! «Там он меня, – говорит, – чем свет разыщет, а ты меня скроешь, а завтра чем свет в Москву», а потом в Орел куда-то хотела. И ложилась, всё говорила, что в Орел поедем…
– Постой; что же ты теперь, Парфен, как же хочешь?
– Да вот сумлеваюсь на тебя, что ты всё дрожишь. Ночь мы здесь заночуем, вместе. Постели, окромя той, тут нет, а я так придумал, что с обоих диванов подушки снять, и вот тут, у занавески, рядом и постелю, и тебе и мне, так чтобы вместе. Потому, коли войдут, станут осматривать али искать, ее тотчас увидят и вынесут. Станут меня опрашивать, я расскажу, что я, и меня тотчас отведут. Так пусть уж она теперь тут лежит, подле нас, подле меня и тебя…
– Да, да! – с жаром подтвердил князь.
– Значит, не признаваться и выносить не давать.
– Н-ни за что! – решил князь. – Ни-ни-ни!
– Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать! Ночью проночуем тихо. Я сегодня только на час один и из дому вышел, поутру, а то всё при ней был. Да потом повечеру за тобой пошел. Боюсь вот тоже еще, что душно и дух пойдет. Слышишь ты дух или нет?
– Может, и слышу, не знаю. К утру наверно пойдет.
– Я ее клеенкой накрыл, хорошею, американскою клеенкой, а сверх клеенки уж простыней, и четыре стклянки ждановской жидкости откупоренной поставил, там и теперь стоят.
– Это как там… в Москве?
– Потому, брат, дух. А она ведь как лежит… К утру, как посветлеет, посмотри. Что ты, и встать не можешь? – с боязливым удивлением спросил Рогожин, видя, что князь так дрожит, что и подняться не может.
– Ноги нейдут, – пробормотал князь, – это от страху, это я знаю… Пройдет страх – я и стану…
– Постой же, я пока нам постель постелю, и пусть уж ты ляжешь… и я с тобой… и будем слушать… потому я, парень, еще не знаю… я, парень, еще всего не знаю теперь, так и тебе заранее говорю, чтобы ты всё про это заранее знал…
Бормоча эти неясные слова, Рогожин начал стлать постели. Видно было, что он эти постели, может, еще утром про себя придумал. Прошлую ночь он сам ложился на диване. Но на диване двоим рядом нельзя было лечь, а он непременно хотел постлать теперь рядом, вот почему и стащил теперь, с большими усилиями, через всю комнату, к самому входу за занавеску, разнокалиберные подушки с обоих диванов. Кое-как постель устроилась; он подошел к князю, нежно и восторженно взял его за руку, приподнял и подвел к постели; но оказалось, что князь и сам мог ходить; значит, «страх проходил»; и однако же он все-таки продолжал дрожать.
– Потому оно, брат, – начал вдруг Рогожин, уложив князя на левую, лучшую подушку и протянувшись сам с правой стороны, не раздеваясь и закинув обе руки за голову, – ноне жарко, и, известно, дух… Окна я отворять боюсь; а есть у матери горшки с цветами, много цветов, и прекрасный от них такой дух; думал перенести, да Пафнутьевна догадается, потому она любопытная.
– Она любопытная, – поддакнул князь.
– Купить разве, пукетами и цветами всю обложить? Да, думаю, жалко будет, друг, в цветах-то!
– Слушай… – спросил князь, точно запутываясь, точно отыскивая, что именно надо спросить, и как бы тотчас же забывая, – слушай, скажи мне: чем ты ее? Ножом? Тем самым?
– Тем самым.
– Стой еще! Я, Парфен, еще хочу тебя спросить… я много буду тебя спрашивать, обо всем… но ты лучше мне сначала скажи, с первого начала, чтоб я знал: хотел ты убить ее перед моей свадьбой, перед венцом, на паперти, ножом? Хотел или нет?
– Не знаю, хотел или нет… – сухо ответил Рогожин, как бы даже несколько подивившись на вопрос и не уразумевая его.
– Ножа с собой никогда в Павловск не привозил?
– Никогда не привозил. Я про нож этот только вот что могу тебе сказать, Лев Николаевич, – прибавил он, помолчав, – я его из запертого ящика ноне утром достал, потому что всё дело было утром, в четвертом часу. Он у меня всё в книге заложен лежал… И… и вот еще что мне чудно́: совсем нож как бы на полтора… али даже на два вершка прошел… под самую левую грудь… а крови всего этак с пол-ложки столовой на рубашку вытекло; больше не было…
– Это, это, это, – приподнялся вдруг князь в ужасном волнении, – это, это я знаю, это я читал… это внутреннее излияние называется… Бывает, что даже и ни капли. Это коль удар прямо в сердце…
– Стой, слышишь? – быстро перебил вдруг Рогожин и испуганно присел на подстилке. – Слышишь?
– Нет! – так же быстро и испуганно выговорил князь, смотря на Рогожина.
– Ходит! Слышишь? В зале…
Оба стали слушать.
– Слышу, – твердо прошептал князь.
– Ходит?
– Ходит.
– Затворить али нет дверь?
– Затворить…
Дверь затворили, и оба опять улеглись. Долго молчали.
– Ах да! – зашептал вдруг князь прежним взволнованным и торопливым шепотом, как бы поймав опять мысль и ужасно боясь опять потерять ее, даже привскочив на постели. – Да… я ведь хотел… эти карты! карты… Ты, говорят, с нею в карты играл?
– Играл, – сказал Рогожин после некоторого молчания.
– Где же… карты?
– Здесь карты… – выговорил Рогожин, помолчав еще больше, – вот…
Он вынул игранную, завернутую в бумажку колоду из кармана и протянул к князю. Тот взял, но как бы с недоумением. Новое, грустное и безотрадное чувство сдавило ему сердце: он вдруг понял, что в эту минуту, и давно уже, всё говорит не о том, о чем надо ему говорить, и делает всё не то, что бы надо делать, и что вот эти карты, которые он держит в руках и которым он так обрадовался, ничему, ничему не помогут теперь. Он встал и всплеснул руками. Рогожин лежал неподвижно и как бы не слыхал и не видал его движения; но глаза его ярко блистали сквозь темноту и были совершенно открыты и неподвижны. Князь сел на стул и стал со страхом смотреть на него. Прошло с полчаса; вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал,