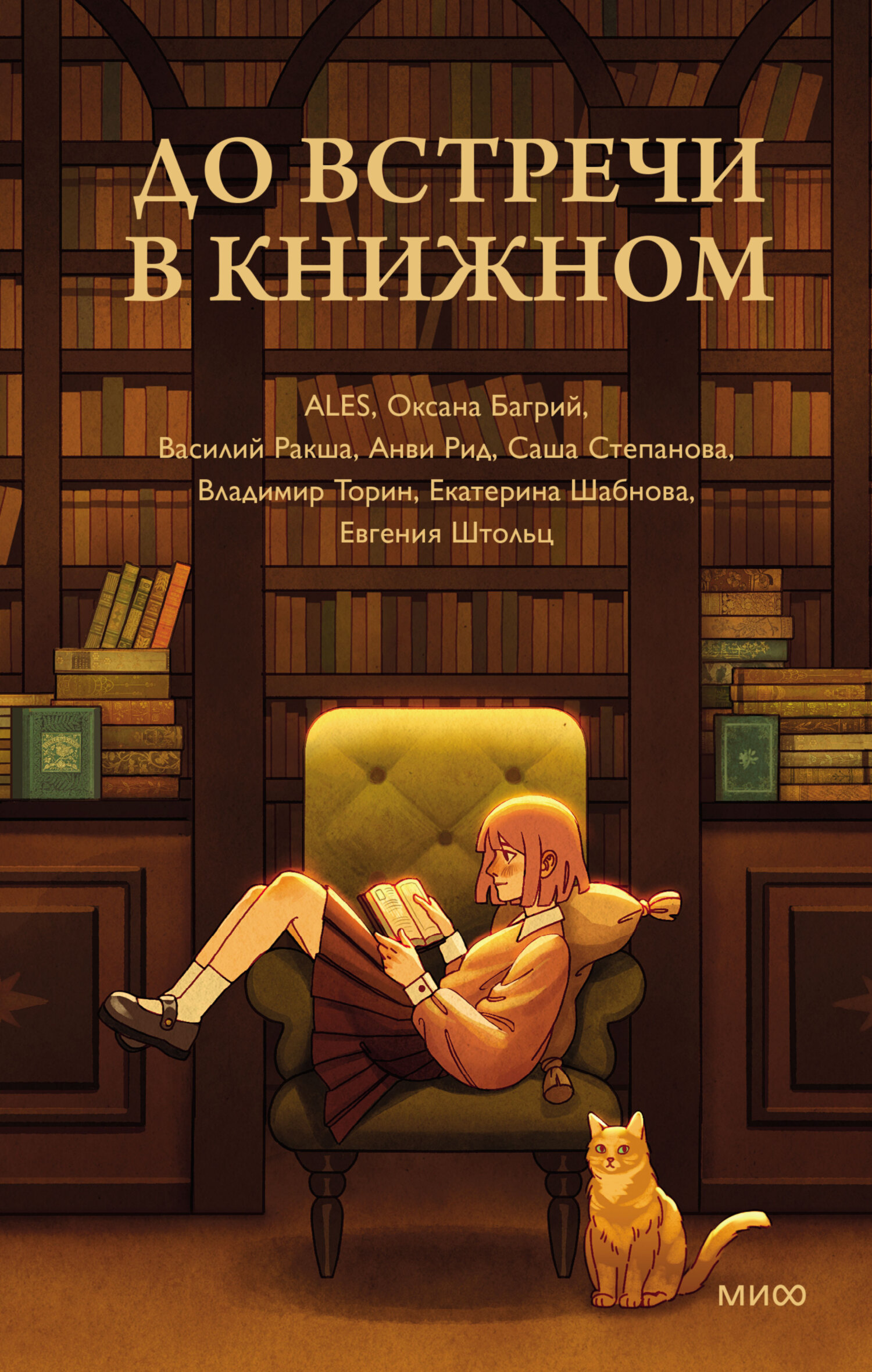не становится…
Печатная машинка, печатай! Печатная машинка, печатай!
Доктор дочитал и сложил листки. После чего вернул их Кэт Этони.
– Вы довольны? – спросила она.
– Занимательная и довольно красивая предсмертная записка. Но ведь все это ложь, не так ли?
Кэт Этони вздрогнула и побледнела.
Доктор покивал, наблюдая за ее реакцией, и продолжил:
– Вы решили покончить с собой не потому, что ваше состояние стало невозможно выносить. Знаете, мэм, хорошо, что вы не взяли этот эпилог в финальную версию книги – в нем нет искренности. Признаю, что, быть может, другие ваши читатели восхитились бы подобной концовкой, но только не я. Поскольку не верю ни единому слову. Что вас тяготит на самом деле? У меня есть предположение, но я хотел бы услышать это от вас.
Кэт Этони вздохнула.
– Хуже зловонных критиков только проницательные читатели, – проворчала она. – Они сразу чувствуют фальшь, с ними не пройдет просто красивенько размазать буквы по листу – отвернутся. Что касается вас, доктор, то вы несколько увлеклись даже по меркам моих въедливых читателей, и все же… Все же я расскажу вам. Кому я могу рассказать о болезни, как не доктору? У вас не найдется папиретки?
Доктор Доу достал из кармана портсигар, открыл его и протянул писательнице.
– Вообще-то, я ни с кем не делюсь папиретками, но для вас могу сделать исключение.
– Вы – сама любезность, – усмехнулась Кэт Этони и закурила, тут же погрузившись в вишневое дымное облако, весьма шедшее к ее платью. Доктор присоединился, и скоро весь их уголок утонул в дыму, словно в бархате театрального занавеса. А затем этот занавес «поднялся» – Кэт Этони начала рассказывать:
– Не уверена, знаете ли вы, доктор, но настоящие писатели, к которым я себя причисляю, не могут жить без того, чтобы не писать. Они могут впадать в экстравагантные истерики, грозя всем и каждому, что больше ни слова не напишут, могут жаловаться на снобов-критиков и читателей, которые находят в их книгах то, чего там отродясь не было. Могут впадать в крайности и лечить неврозы сладостями и вином. Могут на время выпадать из работы, проваливаясь в открытые люки жизненных неурядиц, вроде простуды или влюбленностей. Мы хлопаем дверью, сыплем оскорблениями, топаем каблуками и жалуемся на обреченность, беспросветность и злющих редакторов, которым только дай волю повырезать из книги все наше самое любимое и невероятно важное. Но если мы хлопаем дверью, это значит, что в запертой комнате скоро зазвучит стук клавиш печатной машинки. Если мы топаем каблуками, то мы, скорее всего, направляемся к письменному столу. А если мы сыплем оскорблениями и жалуемся – это значит, что жизнь вне нашей книги вдруг стала унылой и тоскливой, как комок пыли на подоконнике. Настоящий писатель не может не писать. Вы понимаете, к чему я веду, не так ли? Забери у вас кто-то ваш саквояж, запрети он вам брать в руки скальпель – и вы почувствуете себя калекой. Вот и я… стала калекой. Нет, никто мне ничего не запрещал, никто ничего не отбирал – я сама. Растеряла слова. Растеряла истории. У меня просто закончились сюжеты. Стук клавиш стих, и у меня ничего не осталось. Вы думаете, я бы стала писать автобиографию, если бы могла придумать новую историю?
– Разумеется, нет.
Кэт Этони тяжело вздохнула.
– Не стала бы. Эта болезнь… пустота внутри, словно старый дом, истлевающий комната за комнатой, в какой-то момент поглотила меня. Я не могу ничего придумать, и чем больше я пытаюсь, тем сильнее впадаю в отчаяние. За письменным столом перед печатной машинкой сидит призрак Кэт Этони, и призрак, в силу своей бестелесности, не может прикоснуться к клавишам. Смысл моей жизни, то, чем я была, исчезло. И я осталась наедине с…
– Беспросветностью.
– Верно.
– А ваш… гм… соавтор?
– С ним то же, что и со мной. Болезнь оказалась заразной.
Доктор Доу покачал головой:
– И вы не придумали ничего иного, как покончить с собой?
– Жизнь закончилась…
– Это не так.
– Все мои книги написаны…
– О, это уж точно не так.
Кэт Этони гневно уставилась на него.
– Вы меня совсем не слушали?
– Через слово, выделяя самое главное. Говорите вы хуже, чем пишете.
– А тактом вы явно не обременены, доктор!
Натаниэль Доу пожал плечами.
– Такт – это вид искажения сути, которым оперируют лицемеры. Напускная вежливость лишь мешает взаимопониманию. Я говорю о настоящем взаимном понимании, а не о том, что обычно называют этим словом.
– Как красиво вы оправдываете то, что вы – грубиян!
– Я всего лишь честен. И я здесь для того, чтобы помочь вам с вашей болезнью.
– Ну да, помочь мне… Вы не понимаете. Я умираю… медленно умираю изнутри. И я просто решила ускорить то, что и так случится. Это не очередная экстравагантная истерика. Это меня убивает. Как будто от моей болезни есть лекарство! И что вы можете сделать с тем, что я больше ни на что…
– «Пост-имаго».
– Что?
– «Пост-имаго», – повторил доктор.
– Что это должно значить?
– Это название. Название вашего лекарства, мэм. У меня есть для вас сюжет. Новая история.
– Мне неинтересно. Я уже все решила.
Доктор будто не услышал.
– В утро перед туманным шквалом в Габен прибыл поезд, – сказал он. – И привез этот поезд с собой жуткую тайну. Кошмарную кровавую тайну. В одном из купе…
Доктор Доу внезапно замолчал и выжидающе поглядел на собеседницу. Кэт Этони даже замерла в ожидании. Она нетерпеливо качнулась и спросила:
– Что было в одном из купе?
– Вы же сказали, что вам неинтересно.
– Не злите меня, доктор! Что было в одном из купе?
– Что ж, мэм. Это и правда крайне любопытная история. С весьма непредсказуемым финалом. Я расскажу вам ее… Завтра. Скажем, в полдень. Здесь же, в «Переплете». За этим самым столиком начнется ваше лечение. Вы теперь моя пациентка, Кэт Этони, и я не позволю какой-то болезни победить.
– Вы так и не сказали, зачем вам все это? Почему вы хотите мне помочь?
Доктор Доу выпустил облако красного дыма и прищурился.
– Вы не понимаете? Все из-за ваших книг. Они делают этот город не таким мерзким и отвратительным. Каждый ваш новый роман вдыхает в эти серые улочки и пыльные площади новую жизнь. У многих в Габене нет ничего, кроме ожидания выхода вашей новой книги. Вы не имеете права просто взять и покончить с собой. Дело не только в вас. У вас есть обязательства перед этим городом. Вы даже не представляете, сколько еще книг не написаны. И они будут… Это всего лишь болезнь, а у меня есть лекарство. Вы обратились за помощью, хоть и отрицаете это. И я помогу вам. Я здесь, чтобы спасти вашу жизнь, Кэт Этони. Вы – очень любопытный случай. Писательский недуг! Это так… захватывающе!
Кэт Этони выразительно на него поглядела.
– Вам говорили, что вы невыносимы, доктор?
– Не припомню, – солгал доктор Доу: он прекрасно помнил все те семнадцать раз, когда ему так говорили.
– Значит, завтра в полдень здесь же?
Доктор кивнул.
– Я буду здесь. С лекарством.
– Надеюсь, что ваше «лекарство» не слишком горькое.
– О, вы зря надеетесь. Разумеется, оно горькое. Как и все лекарства.
Кэт Этони хмыкнула. Она поднялась, надела пальто и поправила шляпку.
– Что ж, тогда до встречи, доктор.
– До встречи, мэм.
Подхватив сумочку и наделив доктора Доу долгим взглядом напоследок, Кэт Этони направилась к лестнице. Вскоре она скрылась внизу.
Доктор встал и подошел к окну. Вот-вот она выйдет…
Но Кэт Этони так и не появилась. Из «Переплета» вышел какой-то джентльмен в темно-красном полосатом костюме и котелке. Почувствовав взгляд доктора, он обернулся и задрал голову. Узкое лицо, тонкие, будто нарисованные тушью усики, прищуренные глаза и длинный острый нос в чернилах…
Подмигнув доктору, этот тип зашагал по тротуару в сторону стоявшего у обочины кэба.
Натаниэль Доу задумчиво глядел ему вслед, пока тот не скрылся в экипаже, который тут же загудел и тронулся в путь.
«Писательский недуг… – мысли в голове доктора все вертелись вокруг беседы с Кэт Этони. – Новая замечательная болезнь в моей практике. Остается надеяться, что пациент выживет…»
Из размышлений