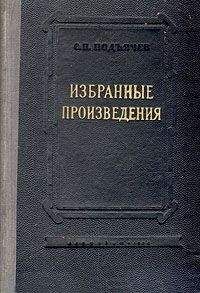— А ты, мамаша, полегче! — сказал Юфим. — Лаяться не годится.
— Да как вас не лаять: три рубля, статочное ли дело?
— Ну, а ты много ль дашь? — спросил Малинкин.
— Полтора рублика дам!
— Эк ты!..
Начали торговаться.
— Ну, уж так и быть, — сказал Юфим, — давай два!
— Дорого… кормить вас надо… Чай, небось, тоже пьете?
— Само собой, — отвечал Юфим, — небось, тоже люди.
— Заступов вам, чай, надо?
— Да как же? Знамо, пальцем рыть не станешь…
— У нас вон только два… к соседям надо… Все вот докука, хлопоты… Ну, идите в калитку.
— На сотку за хлопоты! — воскликнул человек в пиджаке.
— Ступай ты атседа, пес… Мне свой пьяница надоел! — крикнула на него баба и, захлопнув дверь у него под носом, ушла.
— Сво-о-олочь! — злобно протянул мужик.
— Кто така? — спросил Юфим.
— Ха-а-а-зяйка! Чо-о-орт! Давайте хоть вы на сотку!
— Ну, нет, друг, — ответил дядя Юфим, — мы тебе уже дали — отчаливай!.. У нас денег шальных нету… Бог с тобой…
— Ну, дери вас чорт, коли так… Я думал, порядочный народ… по совести… эх, вы, обормоты!.. Ну, давайте хоть пятачок, дьяволы!
— Дай ему, дядя Юфим, пятачок, — сказал Малинкин, — отвязаться… ну его!
Ему дали пятачок, и он, ругаясь, ушел…
Хозяйка отперла калитку и, пропустив нас на двор, сейчас же снова заперла ее.
Огромная, гладкая, черная собака соскочила, гремя цепью, с телеги-полка, где она лежала в тени под навесом, и с ожесточением, становясь на задние ноги, хрипло, задыхаясь от злобы, принялась лаять на нас.
— А вдруг сорвется, — произнес Тереха-Воха, сторонясь, — жуть!..
Под навесом, налево от ворот, кроме полка, на котором лежала собака, стояли еще обыкновенные крестьянские «карули» и щегольской, недавно только, повидимому, окрашенный тарантасик. В заднем углу лежали сложенные в клетку сажени две березовых, швырковых дров и сотни три кирпичей. Направо от ворот, против навеса, находился собственно самый «двор», то есть помещение для скотины. В открытую дверь стойла виднелась широкая спина вороной лошади и доносилось откуда-то резкое, басистое хрюканье…
По пустому пространству, между навесом и двором, бродили черные, поджарые, с белыми щеками, «аглицкие» куры… индейский петух, то и дело распускавший хвост и кричавший «здравия желаем!», утки и породистые белые голуби…
Вслед за хозяйкой мы завернули за угол и вошли в полутемные сени.
— Полегче топочите тутотка ножищами, — вполголоса сказала она, — хозяин спит… Выпимши.
Она отворила обитую рогожей дверь, и мы друг за другом вошли в кухню.
— Здорово живете! — сказал Юфим, перекрестившись в угол.
— Здравствуй! — ответила хозяйка. — Кладите сумки пока хучь под лавку, садитесь… Покурите, коли курите… На дворе не курите, а здесь можно.
Мы сняли сумки и все четверо сели рядышком на скамью, стараясь держаться поближе к порогу.
В передней части кухни, у небольшого оконца, выходившего на площадку двора, сидела еще женщина и, наклонившись, что-то шила.
— Здравствуй, молодка! — сказал Юфим.
Она подняла голову вяло и нехотя, ничего не сказала и снова принялась за шитье. Женщина эта была одета в серое, сильно заношенное, давно не стиранное, засаленное платье… Она была беременна, лицо было худое с желтыми пятнами, под глазами синяки…
Немного поодаль сидели у стола дети и ели со сковороды жареную картошку, — две девочки и мальчик. Они уставились на нас глазенками, как испуганные зверьки, и перестали есть… Карапуз-мальчишка, с волосами, похожими на лен, полез, очевидно, со страху к матери. Та сердито толкнула его и грубо крикнула:
— Не мешай, оглашенный.
— Невестка это моя, — сказала приведшая нас хозяйка. — Вы не бойтесь ее, — почему-то успокоила она нас и добавила:
— Пойду заступов поищу… К Лучинкиным схожу. Посидите пока что…
Она вышла… В кухне было полутемно, грязно и как-то жутко… Она была, повидимому, очень стара и требовала полного ремонта. Пол, покатый к окнам, изображал что-то вроде горки. Большая облупившаяся глиняная печь, стоявшая на деревянном опочке, тоже ткнулась челом вперед, напоминая задумавшуюся старуху. В старинном с ободранной фанеркой и выбитыми в дверцах стеклами шкафу виднелись на полках чайные чашки, сахарница в виде курицы, стаканы и прочее. На одной из стен висела картина с Надписью «Ильяс» и небольшой портрет Гоголя. Гоголь с отодранным ухом как будто чуть-чуть улыбался на неприглядность этой обстановки. Маятник небольших, с одной гирькой, часов торопливо, точно боясь опоздать куда-то, однообразно-надоедливо выстукивал свое тик-так, тик-так… В пазах стен виднелись тараканы, и множество мух бродило по столу.
— А где ж хозяин? — спросил дядя Юфим, нарушая тяжелое молчание.
Женщина дернула как-то особенно зло иглу, нагнулась, откусила нитку, исподлобья глядя на нас, и потом уже сказала:
— Спит!
— Что не вовремя? — опять спросил любопытный Юфим.
— Ему время, — сердито ответила женщина, вдевая нитку. — Хоть бы облопался, что ли!.. Петька! — воскликнула она вдруг. — Я те побалую, смотри, окаянная сила!
Мальчишка, забравшийся на подоконник и хотевший было отворить окно, кубарем слетел оттуда и заплакал от испуга.
— У-у-у, лешай! — крикнула на него женщина злобным, отчаянным, со слезами в голосе, криком. — Передохли бы вы все! У людей вот мрут, — передохли бы и вы.
— Что это ты, — тихо вымолвил Юфим. — Нешто можно? Ребенок глуп, играет… Грех и уста, молодка, сквернит…
— А ну и тебя! — крикнула женщина и махнула рукой. — Ничего ты не знаешь! Связали они меня. Царица ты моя небесная, матушка! — опять отчаянно завопила она. — Долго ль мне страдать-то, долго ль чашу эту пить горькую?
Она бросила работу и заплакала, закрыв лицо руками.
— Скоро ль глазаньки-то закроются на веки-веченские… О-о-х! горькая я, горькая!.. Не с кем-то мне слово вымолвить… Некому меня пожалеть!..
Она выла, точно по покойнике, жалобным, душу надрывающим воем. Видя, что мать плачет, дети тоже заплакали. Девочка уцепилась за ее подол и кричала:
— Мамка, не плачь! Золотая, не плачь!
— Полно, молодка, — сказал дядя Юфим, — что ты словно по упокойнике?
— Милый ты мой, — еще шибче заголосила женщина и скорбно всплеснула руками, — не знаешь ты моего житья… Почернело во мне сердце ровно черная смола!
Она обняла вдруг одну девочку поменьше и, в страстном порыве прижав к своей груди, заголосила:
— Детушки мои милые!.. Ненаглядные мои детушки!.. На горе-горенское народила я вас… Кто пожалеет вас, как помру я… Детушки, голуби мои ненаглядные!..
Она принялась целовать девочку.
Волнение ее мало-помалу стихло… Она всхлипнула последний раз, утерла руками глаза и заговорила, уже не растягивая и не выкрикивая слова:
— Вот придет ночь темная, бери детей да и иди в чужие люди ночевать… День-денской вот тут сиди… в горницу-то я и не смею… а на ночь в люди…
— Что ж так?
— Проснется чадо-то мое… драться начнет…. Дети боятся… на стену лезут со страху… Ах, как дерется!.. Владычица ты моя! Избита я вся… нет живого места на мне! Голову вот как наклоню, так словно падаю куда, — все от побоев… страх во мне во всей, трясение. И все пьет, и все, милый ты мой, пьет!..
— С чего ж это он?
— С жиру… избаловался: харч хороший, жизнь привольная, деньги есть… Не рабочий, не ломаный: палец об палец не ударит… Пьет, и пьет, и нет ему, окаянному, удержу. Не захлебнется винищем-то проклятым… Все до дна пьет, всё до дна… И не пролей, милый ты мой, капельки!
— Та-а-к! — протянул Юфим и почесал в голове. — Ну, а как же хозяйство-то: лавка и все прочее? У вас, как поглядел я даве, как сюда шел, колесо тоже немалое заведено.
— Свекровь все, батюшка, все свекровь… Кабы не она, давно бы все прахом пошло!
— Все без мужика нельзя: лошадь там запрячь, скотину убрать… все такое…
— А мы работника держим.
— Где же он… не видать…
— Ушел… расчет взял третевось… Не живут… Кто станет жить? Срамовище!.. Поживет недельку — бечь! На руку сам-то тяжел… дерется… Ну, а по нынешнему времю кто станет терпеть… Доведись до кого хошь, — нешто стерпит?..
— Известно, — согласился Юфим. — Плохо твое дело, — добавил он.
— Так-то плохо, милый, так-то! Десятый год маюсь, извелась вся… В люди итти стыдно… Ну, что же мне, милый, делать-то? И не придумаю… Ах, да связали вот они меня, проклятые!.. У-у-у, черти!
Она опять со злостью толкнула мальчика и еще пуще заплакала. Мы молчали, потупясь. И, кажется, у всех одинаково нехорошо было на душе.
— Кабы не они, — заговорила женщина снова, — плюнула бы я на него… ушла бы, куда глаза глядят… Ешь, собака, да незнамая!.. Вот проснется к вечеру… Ужо посмотрите, каков бурлак: морда-то лопнуть хочет… Хуже-то он для меня, милый, зверя лесного, волка!.. Не слыхала я от него, опричь матюгов, слова ласкового… Пьяный да слюнявый лезет… Во грехах и детей рожу, за носилку… Каждый год, почитай, рожу…