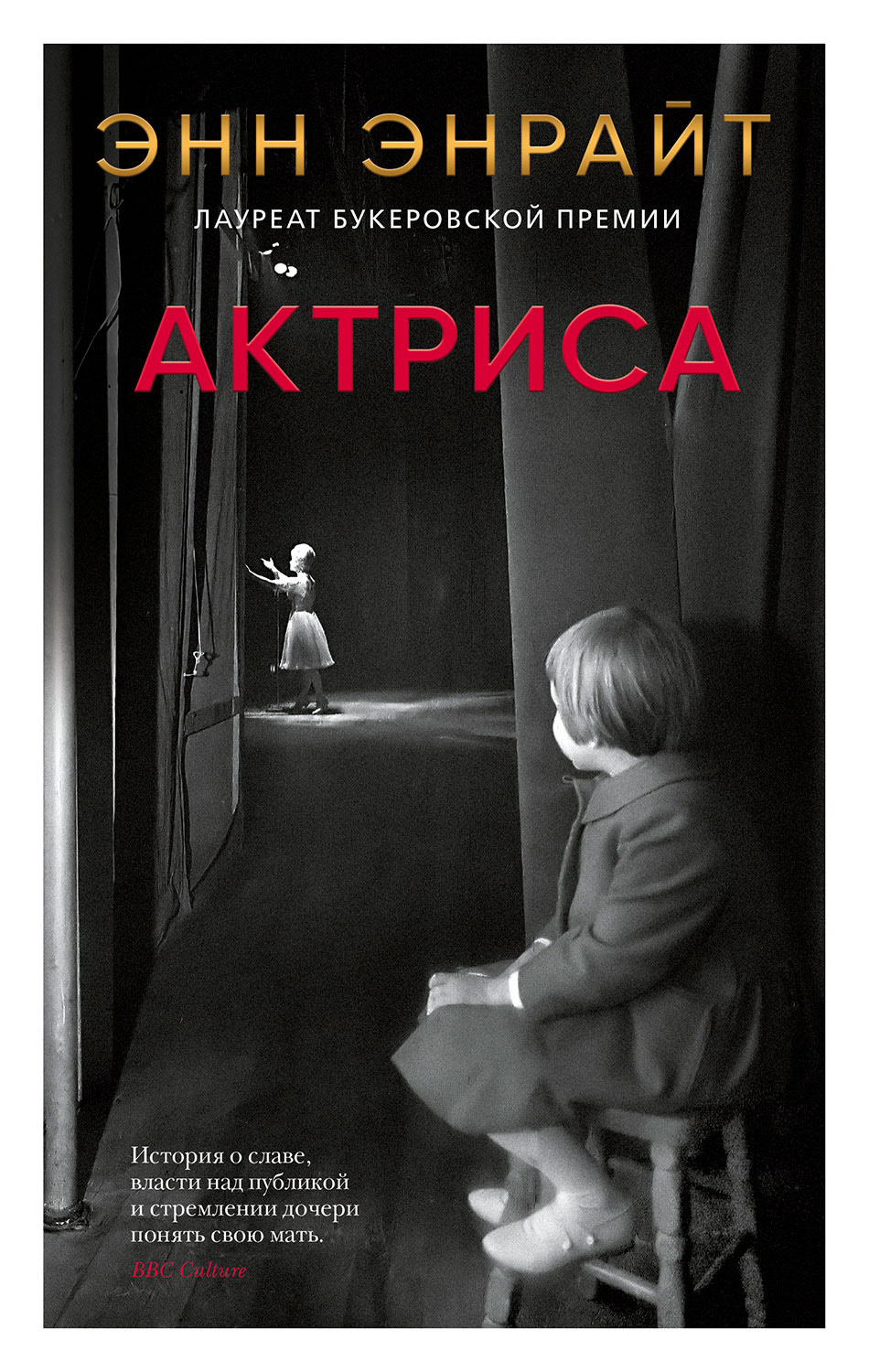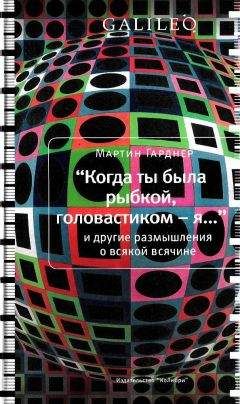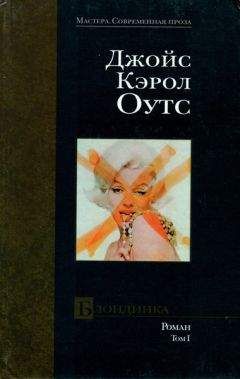за ранеными в полевом госпитале в Нормандии. Передвижной госпиталь расположился среди руин разбомбленной старой церкви. В первой сцене на ряд кроватей льется сквозь витражи лунный свет; сбоку устроена часовня. Вдали слышен гул самолетов, грохот тяжелой артиллерии, прерываемый блюзовыми рыданиями губной гармошки – играет раненый солдат из Миссисипи – или бормотаниями ослепшего паренька, Джимми, которому снится, что он снова видит.
Сестра Мария – юная, но сильная духом уроженка западной Ирландии – вступает в спор с американским капитаном ирландского происхождения Маллиганом, который разыскивает вражеского солдата, замешанного в военных преступлениях. Обмотанного бинтами нациста обнаруживают среди подопечных монахини; тот почти не приходит в сознание, и сестра утверждает, что он слишком слаб, чтобы предстать перед судом. Капитан настаивает. Она не уступает. Они спорят несколько дней и в конце концов влюбляются друг в друга. В финале, после невероятно долгой ночи, часть которой влюбленные проводят в молитве, Маллиган гибнет от пули врага, лишь притворявшегося немощным. Этот неожиданный поворот, когда утрату несет женщина, а не мужчина, и превратил образ сестры Марии Фелиситас в сенсацию. Первый – он же последний – поцелуй влюбленных вогнал бы в краску епископа. После поцелуя капитан Маллиган падает на колени сестре Марии, сидящей на разбомбленных и осыпающихся алтарных ступенях, и умирает. В его бездыханном долговязом теле нет никакого изящества, и вся эта неуклюжая Пьета открывает какую-то новую правду о смерти, вере и войне.
«Он покинул меня, – говорит она, – и забрал с собой и луну, и солнце. Он забрал мое прошлое и мое будущее, но больше всего я боюсь, что он забрал у меня моего Бога».
Разумеется, Бога он у нее не забрал. Пока два санитара уносят тело, американский солдат выводит в блюзовой манере начальные ноты гимна «О благодать». Монахиня встает; через круглый витраж на ее лицо ложатся пестрые пятна света. Занимается заря. Слепой паренек кричит в предсмертной агонии: «Солнце! Солнце!», сестра Мария Фелиситас подходит к нему и говорит: «Да, Джимми! Ты видишь! Ты видишь солнце!»
Занавес.
Публика в Нью-Йорке рыдала. Зрители вскакивали со своих мест, издавали восторженные вопли и аплодировали как одержимые. Они осыпали ее подарками, кидали на сцену цветы и не только. Один зритель из первого ряда вытащил из нагрудного кармана платок и подбросил его так высоко, что она приняла его за живую птицу. Все это понемногу начинало ее пугать, говорила она.
Ее неторопливый выход на поклон никогда не менялся: взгляд прояснялся, как будто она только что поняла, что все это время – о господи! – в зале были зрители. Она даже вздрагивала. Толпа шумела, а она, все еще находясь между двумя мирами, постепенно возвращалась в себя, чтобы обнаружить, что почему-то стоит на сцене в одеянии монахини.
Удивительные минуты. «О, так вы здесь…» – она протягивала руку в зал. «Да, это я…» – и она прижимала ту же руку к груди. Должно быть, это выглядело фальшиво, но я думаю, она в тот момент ничего не изображала. Перестав играть монахиню и еще не начав играть актрису, моя мать становилась собой. В этот краткий промежуток между двумя временными точками она исчезала, ее почти не существовало. Потом она снова обретала себя – или получала себя назад из рук толпы.
Сколько благодарности. От нее. От них.
«Это всего лишь я». Поклон. Шаг назад. Шаг вперед и поклон. «Без вас я ничего не смогла бы. Вы прекрасны. Да, я тоже вас люблю».
Снимает с головы вейл.
Актерский труд изнурителен, мы все хорошо это понимали. Входить в образ, находиться в образе, а затем мучительно выходить из образа – это высасывало из нее все силы. Обратный путь в реальный мир был долог. Никто не знал, почему это так изматывало, в чем заключалась подлинная алхимия этого действа, но разница между настоящей игрой и простыми передвижениями по сцене существовала: одно дело – держать публику в кулаке, и совсем другое – позволить ей думать о своем.
В ноябре, вскоре после премьеры, она сняла квартиру на Вашингтон-сквер. Я надеюсь, что к тому времени она уже завела любовника, но не исключаю, что она продолжала хранить невинность и ее фотографии в журналах не врали. Ей только-только исполнился двадцать один год. Она работала без продыху. Кэтрин О’Делл была создана для работы, в этом она не сомневалась. При этом она оставалась молодой девушкой. Как она говорила? «Потрясной!» И с легкой американской растяжкой в голосе добавляла: «Что-то с чем-то!»
На снимках тех лет она постоянно в обществе Филипа Гринфилда. Через год они по настоянию студии поженились в Лос-Анджелесе. Их брак продлился полтора бурных года. Сначала они жили в Голливуде, затем – в Брентвуде, на Сан-Ремо-драйв, в огромном доме с парой горничных-австриек и бассейном. От этого периода осталось множество фотографий, запечатлевших ту самую жизнь, по которой всегда тосковала моя мать: домашние праздники, пикники, детская беготня. Но у Филипа на Западном побережье не заладилось с карьерой, и вскоре поползли слухи о супружеских ссорах за закрытыми дверями.
Муж моей матери, Филип Гринфилд, тоже сам себя придумал. Харизматичный брюнет, он родился в Уиллесдене и окончил Лондонскую школу изобразительных искусств Феликса Слейда. После переезда на Сан-Ремо-драйв он превратил раздевалку у бассейна в мастерскую скульптора и пережидал там дневную жару. Подозреваю, что именно Филип приучил мою мать к выпивке, хотя, вероятно, она и сама легко бы с этим справилась. Кроме этого, он принимал снотворное и кваалюд, и матери так и не удалось избавиться от этой заимствованной у него привычки. Но я не виню Филипа за ее украденный сон (сама она всю жизнь обвиняла в том же Плезанс, которая «слишком ворочалась», как будто вместе с одеялом отбирала у моей матери душевный покой).
На первый взгляд замужество казалось идеальным решением. Они с Филипом отлично время проводили в Лос-Анджелесе, во всяком случае, в выходные. В перерывах между съемками в «Маллигане» (и позже в фильме «Крылья над долиной», сегодня почти забытом) она брала машину, заезжала за Филипом, и они вместе отправлялись в гости к какому-нибудь новому приятелю, плавали в бассейне и ужинали. Пили крепкие напитки, иногда шампанское. Мартини на обед, мартини перед ужином, виски поздним вечером, а по утрам водку, чтобы прийти в себя. Филип знал особый рецепт «Кровавой Мэри» с паприкой и яйцом, в целебные противопохмельные свойства которой Кэтрин свято верила до конца своих дней. Она всем навязывала эту «Кровавую Мэри по рецепту мужа», хотя Филип давно умер, а если и был ее мужем, то чисто номинально.
Если верить журнальным сплетням, она не сразу узнала про его