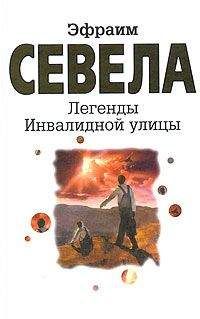— Катить, водишша, катить, и не остановишь, кол ей в хрен!
Хряк мотнул черною папахой на седых клочьях волос, злобно клюнул красно-бурым носом.
— А строил хто? Хто мост строил, я тебе спрашиваю? А? Хто строил? Земство. А советовал хто? Барин наш… анжи-не-ер… Вое оно дело-то какое.
Федор Матвеич нас заметил. Одутловатый, с беглыми и бойкими глазами, в рыжем шарфе вокруг шеи — бывший приказчик в магазине — слегка толкнул Хряка, учтиво поклонился.
— Оченно вода разбушевалась, Наталья Николаевна, так что даже и предметы волокеть, знашь-понимашь, как, например, кошку дохлую.
Мы с Любой отошли в сторону. У самых наших ног вода бурлила, мутно-пузырилась, пенная. На ивняке покачивалось прошлогоднее гнездо.
— Они, Наташа, на луга на наши зарятся. И этот Хряк, даром что старый, первый заправила. Австриец называет его «grosser Dieb». Конечно, вор, а все же староста…
По молодому ее, загорелому и несколько в хозяйстве загрубелому лицу тень прошла.
— Ну, Люба, ну и пусть берут, подумаешь, какая важность.
— Ах, что ты говоришь. И так ведь сена не хватает.
Я видела, что ей и говорить со мной не хочется об этом, как с ребенком, пустяковым существом. Пусть и не говорит. Эта красивая, крепкая женщина мало мне близка, и когда с лицом заботливым, в кофте, мужских сапогах ходит она по клетям, амбарам, молотилкам, на меня нелегким духом веет.
Мы недолго задержались у реки. Была Страстная. Дома ждали милые пасхальные заботы — красить яйца, набирать моху. Любе — куличи и пасхи. Отец же заседал обычно за столом, критиковал нас. Читал «Русские Ведомости». Раздражался на политику.
К заутрени ходили я, Маркел, Андрюша с дочерью Федор Матвеича, востроглазою Аней-Мышкой.
Темной ночью вышли мы с фонариком, на летник. Тропка уж обсохла. Детям жутко, но и весело. Налетит черный ветер, фонарик трепыхнется, желтоватое пламя осветит то колею, траву прошлогоднюю, то ямку. Мимо кладбища всего страшнее, но
Андрей виду не подает. Чтоб покрасоваться пред своею дамой, он идет по верху, у канавы, из-за ней мечутся ветви ив, берез кладбищенских. Вдалеке огни церкви. Мышка жмется все ко мне, в защиту.
У церкви оживление. В ограде по скамейкам девушки с парнями, лущат семечки. Солдаты бродят. На Маркеловы погоны многие засматривают, но когда лысый о. Никодим с иконами, хоругвями, свечами золотеющими опоясывает церковь, и «Христос Воскресе» раздается, светлым, легким сердцем наполняется, и слезы на глазах.
— Христос Воскресе!
— Воистину Воскресе!
Где война, ужасы и окопы? Наступления и пленные? Где сутолока революции? И станешь ли вспоминать о лужках, наделах, выселениях? Над церковью нашей деревянной, скромной, ветер попритих. Древние камни могил княжеских, с темною вязью надписей замшелых так торжественны и так громадна сила Ангела, в сей день таинственно отваливающего плиту.
Когда мы возвращаемся, огонек движется в полях — безмолвно и загадочно. Едет ли кто? Метеор ли? Дети приустали, вновь робеют. Но не пугают мертвецы на кладбище уединенном: да, для них мы пели, слезы наши и о них, вряд ли враждебны они нам.
Дома отец у самовара. Люба за пасьянсом. Стол убран празднично, по-барски, древней Русью.
Разговлялись весело. Пили вино, отец христосовался со мною, напевал: «Христос Воскресе из мертвых»… — по привычке, как на Рождестве пел «Рождество Твое, Христе Боже наш»…
Первые дни прошли в обычной пестроте, с окороками, куличами, поздравлениями, священниками, крашеными яйцами. На деревне девки пели песни, и качались на качелях. Понаехавшие из Москвы брели в калошах новеньких через наш сад, в цветных рубахах из-под пиджаков. Весенний ветер весело трепал ситцы девушек.
Но на четвертый день…
После полудня я наигрывала в зале на рояле. Андрей гонял кием шарик по китайскому бильярдику, позванивая. Теплый дождь чуть прыскал. Зеленя над мельницей яснее зеленели.
Я слышала, как встал отец в столовой, и прошел в прихожую. Обычно там садился на сундук под вешалкой, — кузнецы, прасолы, мужики примащивались на стуле у окна. Но нынче что-то неприятное… В Рамо вторгался хриплый и глухой, знакомый чей-то голос. Я остановилась. Андрюша задержал свой кий. Не соображая, с сердцем тяжко-томным, я прошла через столовую.
Отец, довольно бледный, сидел на сундуке, опершись о палку. Перед ним, красный, со взмокшими патлами Хряк мял в руках черную свою папаху с сивым верхом.
— Я говорю, что я лужки отдам, если земельный комитет так постановит. А если ты у меня требуешь, то это ничего не значит. Завтра ты потребуешь, чтоб я тебе лошадей запрягал, или задом наперед ходил. Я — отец слегка пристукнул палкой — исполняю то, что по закону…
— По закону? По каму-таму закону? — Хряк вдруг хлопнул изо всей силы папахой по столу. — Нет теперь закону… Во теперь закон где, на полу валяется, плюю я на него… закону! Отдавай лужки, тебе говорят… закону!
— Если комитет постановит…
— Што там комитет, нет комитетов, сами комитет… Ты что сидишь… закону… отдавай лужки…
Я подошла к нему совсем вплотную.
— А ты как смеешь здесь орать?
Мое явление было неожиданно. Я ощущала себя очень крепко, напряженно, в той волне, что находила иногда, несла помимо воли и сломить ее уж невозможно. Хряк несколько запнулся.
— Орешь, орешь… Што-ж, что орешь…
— А то, сказала я: что если я к тебе в избу приду и буду безобразничать, ты выгонишь меня?
Хряк перевел мутные, краснеющие глазки.
— Выгонишь… тебя выгонишь.
Я вдруг взбесилась.
— Вон, живо, вон, нахал…
Хряк с удивлением попятился. А я схватила его за плечо и вытолкнула. Не мог он мне не подчиниться!
Притворила дверь, он снова ее распахнул.
— А лужки, — крикнул, — значит, за нами! И никаких! Как мы постановили… Никаких!
Отец поднялся, горбясь, и пошаркивая валенками вышел в кабинет. Неверною рукой налил воды, хлебнул, устало опустился на постель.
— Экая стерва!
Перевел дух.
— Ну и стерва!
В зеркале я увидела, что бледна я как бумага. Андрюша кинулся, прижался и поцеловал. На глазах слезы. Но смутился, убежал. Я подошла к окну.
Все действия мои были бессмысленны, но я иначе не могла.
Отцу, наверно, это не великая услуга. Революция… Нас завтра могут вышвырнуть, арестовать. Ну, все равно. Как делаю, так делаю.
Люба за ужином с ужасом на меня смотрела. Когда я вышла, поднялась за мной.
— Наташа, это же безумие… Хрептовичи, Булавины…
Маленький человек шмыгнул мне под руку, обнял, опять ко мне прижался.
На другой день — хмурый, теплый и туманный — встретила я в саду Федор Матвеича. На нем пальто, картуз. Высокие сапоги в калошах.
— Конечное дело, Наталия Николаевна, Хряк даже оченно без понятия, знашь-понимашь, и притом выпивши был. Но только времена теперь такие, народ непокойный… наш народ сами знаете такой… так бы поосторожней как…
Я успокоила своего дипломата. Лужки, конечно, будут их, а староста пусть лучше с мужем объясняется, и в трезвом виде.
— Потому что наш народ сами знаете какой… одним словом, что народ-то темный… а без лужков, знашь-понимашь, и нам не обойтиться.
Это я твердо понимала, и без знашь-понимашь. У меня смутное, нелегкое осталось ощущенье: да, Хряк вор и шельма, хорошо бы его с лестницы спустить, но что же… сидеть на лужках своих, дрожать, оборонять от мужиков? Вот этого-то именно не доставало, в Любу обратиться! Главное, противно, замутнялось нежное и светлое, что наполняло сердце от заутрени пасхальной, от весны, полей, апреля…
И я была почти довольна, когда кончился срок отпуска Маркелова, и мы уехали в Москву. Я оставляла отца сумрачным, Любу встревоженной. Ну, и хорошо, что уезжаем: пусть это эгоизм, мне безразлично.
В Москве тоже висело надо мной — устраивать Маркела.
Он ходил в свой полк и ничего не делал. Завтракал в Собрании с тучею прапорщиков, иногда дежурил по казарме, раз даже скомандовал: « на-кр-ра-ул!» — и удивился: сделали на караул. Но не сегодня завтра полк выступит. Какая там война? Солдаты разбегались, революция росла. И мне не нравилось, чтобы Маркел ушел на фронт. Я навестила генерала своего пессимистического. Не слыхать об артиллерии!
Маркела, между тем, выбрали в офицерский совет, по временам он с шашкою своей тяжелою брел в генерал-губернаторский дворец. Опираясь на эфес, подремывал под прения офицеров — в золоченом зале, мягких креслах и при нежной зелени лип, распустившихся за зеркальными стеклами.
— Знаешь, — он сказал мне раз, лениво, возвратившись с заседания, — а у нас ведь Кухов появился…Ну, как там… в совете. Он, конечно, левый… проповедует, чтоб нам с солдатскими советами… тово… соединиться.
В один из душных, пыльно-золотистых вечеров мы вышли вместе на Тверскую, я провожала его в заседанье. Запоздали, но и заседания всегда запаздывали. У кафэ Бома встретился нам Кухов — потный, с лицом лоснящимся, и фуражка съехала назад. Он шел, жестикулировал, был, видимо, взволнован.