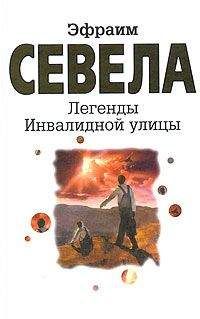В один из душных, пыльно-золотистых вечеров мы вышли вместе на Тверскую, я провожала его в заседанье. Запоздали, но и заседания всегда запаздывали. У кафэ Бома встретился нам Кухов — потный, с лицом лоснящимся, и фуражка съехала назад. Он шел, жестикулировал, был, видимо, взволнован.
— Хм, знаете, что произошло? Вот это л-ловко! Наши остолопы… Там какой-то с фронта заявился, ужасов наговорил, паденье дисциплины и развал… и этакое благородство обуяло, тут же поднялись и дали обещанье — добровольно на фронт ехать, в наступление идти. Что за нелепость! Ну, конечно, наша группа против, но мы меньшинство… А? Вот разумники!
Я улыбнулась про себя. Ну, опоздал голубчик мой Маркуша! Кухов же и не пойдет, нечего беспокоиться.
Но Маркел разволновался. Важное решение, его не было…
— Решение не важное, а глупое — Кухов отирал пот с угрей, острыми, недобрыми глазками на нас глядя.
— Я, разумеется, не подчиняюсь… Можете меня не уважать, Наталья Николаевна, ваш муж по счастию не попал в эту чепуху… а уж мы — травленые!
И он откланялся, побежал, ядовитый следок в воздухе оставил.
— Да, но позволь… и мне надо же идти… как же так… вот уж глупо вышло!
Теперь я засмеялась — откровенно.
— Ничего не глупо. Наоборот, нелепо было бы тебе идти.
И я вдруг впала в красноречие. Вернее, я сказала то, о чем давно уж думала: что вся военщина Маркелова есть вздор, если такие шляпы на фронте соберутся, то война проиграна наверняка. Нет, не ему, конечно, воевать.
Маркел возражал слабо. Мы дошли до губернаторского дома. Окна залы заседаний были настежь.
Два офицера разговаривали, опершись на подоконник, и курили, Маркел взглянул наверх смущенно. Над Москвою вечер опускался, бледно-зеленеющий, с нежным золотом крестов церковных. Не хотелось возвращаться. Мы гуляли, потом зашли в клуб. На веранде, за зелеными столами, те же дамы, что во времена Александра Андреича резались в винт и преферанс. В саду, в зеленой мгле, за столиками со свечами в колпачках, ужинали. В беседках под трельяжами хохотали компании.
К нам тотчас подошла Нилова, с Сашей Гликсманом. Саша изобрел новую помаду, заработал на ней, и теперь вспрыскивал. Я рассказала о Маркеле. Саша с Ниловой захохотали одновременно и равно-весело.
— Ах, да оставьте себе эти глупости, — говорил Саша, и выпячивал губы: — ну этот фронт, и наступления, это же пустяки. Война проиграна. Разве-ж не видно, что мы на вулкане, где же воевать! Нет, вы оставьте войну до мирного времени. Умный человек и сейчас может заработать. И взгляните, я какую камею Шурочке купил… Вот мы с вами сидим, из-полы пьем водочку, а завтра, может быть, придут и скажут: ну-ка, господа буржуи, не угодно ли по шапке? Вы думаете, что теперь спокойно можно по трамваю ехать? Или отлучиться из квартиры? Если носите с собой бумажник, его вытащат, не обижайтесь… ну, если вора накроют, то в трамвае же и забьют на смерть, все-таки я не советую ничего с собой возить… господа солдатики в серых шинелях, это же такие мастера девяносто шестой пробы…
Мы засиделись долго. Красное вино нам подавали в кувшинах, коньяк в чайниках. Чуть бледнело небо на востоке, но зеленый сумрак наполнял площадь Страстного, когда возвращались. Вдруг с Димитровки раздались выстрелы. Мгновенно толпа собралась, тени бросились к Путиннковскому. Стрельба шла четко и забористо.
— Грабят, — пронеслось откуда-то. — Бандиты, перестрелка.
— Ну, я не говорил? Нам с Шурою на Долгоруковскую, и вы думаете, что я, как иди-ет, туда и сунусь? Нет, извиняюсь. Перекладываю керенки в задний карман и прямо по Тверской идем, благодарим Бога, что не в нас стреляют…
И премудрый Саша, хоть брал с Ниловою арсенал, из осторожности повел нас Палашевским.
— Душка моя, целовала меня Нилова, когда прощались, в нашем переулке, — ты же видишь, какой Саша умный? Все предвидит и все понимает. Если же тебе духи там, или же помада, то по себестоимости…
— Ах, что за пустяки, Шурочка, с твоих друзей себестоимость… Просто говорите: Саша — три флакона, Саша — пять коробок.
Когда мы поднялись к себе в квартиру, и я раздевалась, некоторые звуки привлекли мое внимание. Я позвала Маркела. В открытое окно, чрез улицу, мы ясно разглядели человека, осторожно пробиравшегося от одной трубы к другой, по крыше.
— А ведь, действительно… тово… надо бы меры принять… сторожа ночного…
Маркел надел гимнастерку, взял свой кольт.
— Если-б захотелось… я бы из кольта этого… я бы его свалил, конечно… но ведь это…
Снизу раздались свистки. Я засмеялась.
— Уж и правда! Если-б захотеть! Эх ты, вояка!
Джентльмен на крыше взволновался и заторопился. Мы развеселились. Заперли мы окна, положили кольт под изголовье, чтоб его еще не утащили, и заснули. Бандиты, так бандиты. Шут с ними.
На другой день, в лагере, Маркелу подали бумагу о переводе в артиллерию. А полку приказ выступить на юго-западный фронт.
VI
Андрюша это лето жил в деревне, Маркел ходил в Николаевские казармы — там обучали его артиллерии и верховой езде. Я же то в Галкине, то в Благовещенском. Чем больше разжигалась революция, тем сильнее чувствовала: не могу оставить ни большого, что похож на маленького, и ни маленького, рано выросшего в большого. В Москве мне непокойно было за Андрюшу, в Галкине же за Маркела.
Я взволновалась, возвратившись к августу в Москву: нашла Маркела своего в жару, с кашлем мучительным. Воспаление легких! Маркел залег пластом. За этот месяц, среди грохота восстаний, поражений, митингов, речей, разгромов. Самосудов я узнала в точности кривые температур, компрессы, банки, кровохарканья и дигален для сердца. Маркуша очень изнемог. Исхудал дико. Борода бурьяном разрослась. И без труда получил отпуск полуторамесячный для поправления здоровья.
Я взяла его в деревню еще слабого и хилого. И знала-ль, сидя в купэ поезда, на сколько времени везу?
Лишь позже, размышляя о пережитом я поняла, что кто-то, до поры до времени, упорно уводил нас от событий. А они шли.
Отец с неудовольствием читал теперь газеты. Но наступил день, когда и их не привезли. Быстро донеслось до нас: в Москве восстание.
Почтенная Прасковья Петровна, многолетняя кухарка, женщина дородная, пессимистическая, собирала непреложные известия; и топя плиту сухим березняком и хворостом, докладывала Любе: «юнкеря и господа в Москве бунтуются. Горить Москва, горить»…
И в наше Галкино, и кругом в деревни ежедневно беженцы являлись: выходило, что Москва почти уж взорвана, Кремль уничтожен и откуда-то идут казаки, а откуда-то еще — войска.
Отец мрачно курил на обычном своем месте, у конца стола. Орали галки. Ранний снег белил клумбы, и таял.
— Сумасшествие какое-то. Прямо ополоумели.
К характеру его не подходили революции. Всю жизнь считал он, что мир движется по «Русским Ведомостям». А теперь было иное. Но мы, все ведь думали по-привычному. И когда пришло, наконец, первое письмо от Георгиевского, где ясно все описывалось, тотчас решили, что новая власть более двух недель не выдержит.
— А мужики говорят, — докладывала Прасковья Петровна: — теперича и скот заберут, и значить, всех помещиков посгоняють, потому что такой декрет вышел.
Бесстрастно посыпала она луком красные котлеты, напоминавшие сердца.
— И так что нас, значить, прямо всех отсюда вон. А то говорять, даже и уйтить не дадуть, прямо ночью дом обложуть, керосином збрызнуть, и конец…
В деревне, правда, становилось беспокойно. Возвращалась моложежь с фронтов, хотелось развернуться. И нередко в саду нашем я встречала юношей в фуражках на затылок, с коком и в обмотках.
— Дедушка наш удивляется…не понимает, что ли…— говорил Маркел, — или не хочет… ну, тово, понять… Но ведь… земли давно хотели… и вообще, мы, баре… давно раздражали их. Я больше удивляюсь, почему нас… до сих пор еще не разгромили… я считаю это… самым удивительным.
Конечно, мы с прислугою своей, роялями, Шопенами и экипажами, и книгами совсем здесь ни к чему. Но нас не выгоняли, и не обливали дома керосином. Заступились ли за отца годы достойной жизни, школы выстроенные, дороги и мосты? Или прельщало мало Галкино? Не знаю. Жили мы тогда тревожно.
Помню утро позднее в конце января. Я допивала кофе, а отец сидел как всегда за концом стола. Дверь в прихожую отворилась. Вошли Яшка и паренек Ленька. Видно было, сзади напирают. Отец поднялся, опираясь на палку с резиновым наконечником, медленно пошел навстречу. Яшка дрыгнулся. Ленька, в шинели, розовый, весело-плутоватый, напуском волос из-под фуражки и в обмотках, сделал бойкий жест приветствия.
— И так что, на основании декрета, и как мы слыхали, что у вас есть оружие, то предлагаем немедля его выдать. Да. А то придется обыск произвесть. Теперича и пулеметы зачастую…
Отец сел на сундук.
— А ты сними-ка шапку, в дом пришел, тогда и будем разговаривать.
Ленька не противоречил.