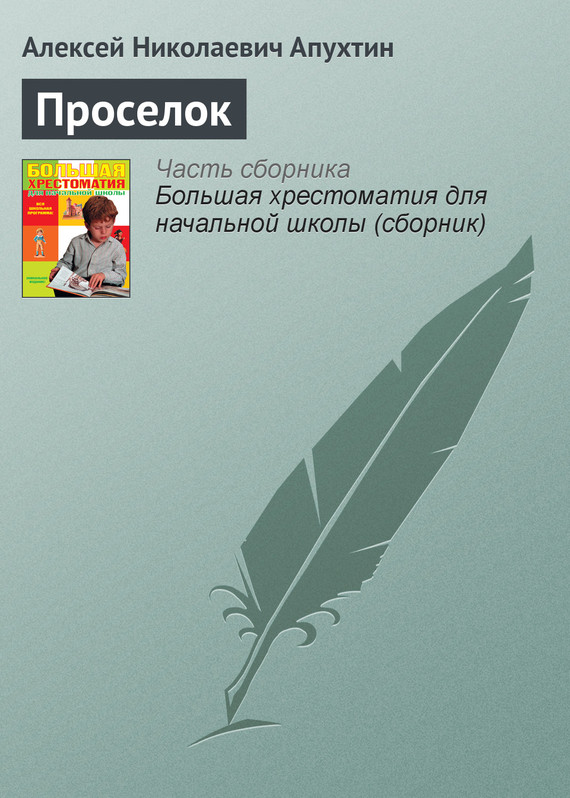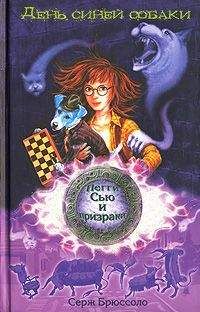Давыдыч, разве бы я пил, если не совестно.
— Где же ты ее поймал?
— Конечно, в реке, где оне и водятся. Около плешивого камня, в яру, там их плавает видимо-невидимо.
— Слово на них знаешь?
— Какое слово, сама навязалась…
— Все-таки баба, значит.
— Да. Рыбу ловить я большой охотник. Закинул крючок с наживой в реку и жду; вода будто пустая, а глядь — и тащится со дна живая рыбина, дух даже захватит, руки трясутся.
Так вот, плыву это я раз под вечер на лодке, гребу и пою, а позади леса тянется; мастер я был тогда романсы петь — дворянское занятие, а к невежеству я еще не совсем привык.
Вдруг дернуло за лесу и лодка стала.
Не может быть, думаю, чтобы это рыба, крючок за корягу задел.
Стал я на корму, лесу вокруг руки обмотал, тяну и гляжу на дно.
И вижу на дне — вот эдакая рыбина хвостом повела, повернулась и показала белое пузо.
Обмер я. Левой рукой взял весло и стал к берегу подгребаться. А она видит, что хитрят, как потянула — я за лесой в воду и бухнулся. Вынырнул, а лодку отнесло. Поплыл я стоя к берегу, а лесу крепко держу; боюсь только, чтобы рыба ноги не отъела. И совсем за куст ухватился и уж коленку задрал, как принялись меня под микитки да под мышки пальцами щекотать.
Я за куст держусь, а сам хи, хи, смеюсь, ха, ха, на всю реку, даже слезы проступили, и страшно — понимаю, кто щекочет.
Оглянусь и вижу: пальчики проворные по мне бегают; вот-вот под воду уйду, сил нет…
Козел меня выручил, — покойной бабушки Лукерьи, — любопытное было животное; видит — человек, барахтается и не своим голосом кричит, подбежал козел, стал над водой, рога опустил, да как топнет копытами…
Русалка тут же и притихла: боится она козлиного духа.
Вылез я кое-как, со страху лесу за собой тяну; иду, тяну, оглянулся, а над водой уж ее голова показалась, — такая красивая: брови подняла, глаза испуганные, рот, как у младенца; потом по грудь вышла и на берег лезет (крючок у нее в волосах запутался) и зовет тихонько: «Не беги, Терентий, разве тебе не жалко меня».
А мне куда бежать! Как дурак, стою перед голой девушкой; белая она, волосы, как пепел, от колен рыбьи ноги, а за ушками — красные жаберки, вроде сережек.
— Уходи, — говорю ей, — ну, что тебе нужно, я не подводный житель…
— Очень ты мне понравился, — отвечает и руки сложила, — возьми меня к себе, как жену. Я буду покорна.
Тут у меня, конечно, в глазах помутнение пошло; поднял я камень, кинул в козла, чтобы ушел; сам кафтан скинул, девушку обхватил, прикрыл кафтаном; она прижалась, будто кошка тихонькая, в глаза глядит, и побежал с ней по задам к себе…
Игнат Давыдыч со страхом слушал Терентия. На дворе давно настали потемки, и молодежь разбежалась по домам веселиться.
— Ну, как же ты вообще? — спросил Игнат Давыдыч и перед носом помахал пальцами.
— Вообще она женщина, — ответил Терентий, — добрая и тихая и жалеет меня нестерпимо. Только насчет пищи — сырую рыбу ест и меня к этому приучила.
Жили мы очень хорошо. Раз я ей и говорю: «Что же, Мавочка, на тебе креста нет»? (Мавочкой она сама себя прозвала). «Нет и нет, — отвечает, — не нужен он мне; а будешь приставать — заплачу». А я опять про свое: «У тебя, говорю, ноги чортовы. Ну виданное ли дело на рыбий хвост башмаки приладить». Мавочка смеется. Пошел я и напился. И понял всю свою низость. Пришел пьяный домой, думаю — ушибу ее, брошу в реку, душу свою освобожу…
А Мавочка мне и говорит: «Ты ведь меня убить пришел, меня убить нельзя, а ты лучше разгляди, какая я хорошенькая».
И показывается передо мной — бровки поднимает, повернется, то волосами вся как шалью прикроется, то примется за усы меня дергать и щекотать под жаброй.
Сел я на лавку и заплакал. А ночью пущий грех.
Потом она мудрости меня начала учить. Да что мне в мудрости. Православный народ в Царствие Божье пойдет, а я в речку, ихним царем сидеть.
У них такой обычай: состарится ихний царь, посылают они русалку покрасивее к людям выбрать нового царя. У них ведь цари из людей, не кое-как, да!
— Ты, значит, о превышении власти толкуешь, ах ты, шельма, — сказал на это Игнат Давыдович, — вот я тебя. А паспорт у твоей животины есть?
— Паспорта у нее, действительно, нет, не полагается, Игнат Давыдыч.
— Теперь я понимаю, отчего ко мне черти лезут, — продолжал исправник, — раз в моем участке такое безобразие развелось. Конечно, они думают, что с моего согласия вся гадость. Ах, ты мошенник, Терентий; а еще я тебя пирогом накормил.
Терентий принялся благодарить и кланяться.
Игнат же Давыдович раздумывал: оставить ему это дело — не хотелось трепыхаться после пирога, или нет, как вдруг под столом в потемках вильнул ощипанный обезьяний хвост.
Не смотря на чинъ исправника и медали, черти глумились надъ нимъ…
Рисовалъ для журнала «Огонекь» художникъ С. В. ЖИВОТОВСКІЙ.
Игнат Давыдович быстро его схватил, посмотрел в ладонь — нет ничего, поднялся и приказал во весь голос:
— Веди меня к ней, властью приказываю.
Повинуясь власти, повел Терентий Игната Давыдовича к себе по морозному снегу вдоль улицы, над которой всходила ущербая луна.
На синеватый снег из окошка лился теплый свет и, когда одурелая чья-нибудь голова, подняв запотелую раму, высовывалась, на мороз клубом вылетал пар и веселый смех и топот танцующих девушек и кавалеров…
— Ох, шельмы, дай с моим делом разделаться, я прекращу это безобразие, — говорил Игнат Давыдович, держась за кушак Терентия, чтобы не свалиться в глубокий снег, — ну, а если, избави Бог, ревизия нагрянет, что стану отвечать: в городе Содом и бесовское действо.
Терентий