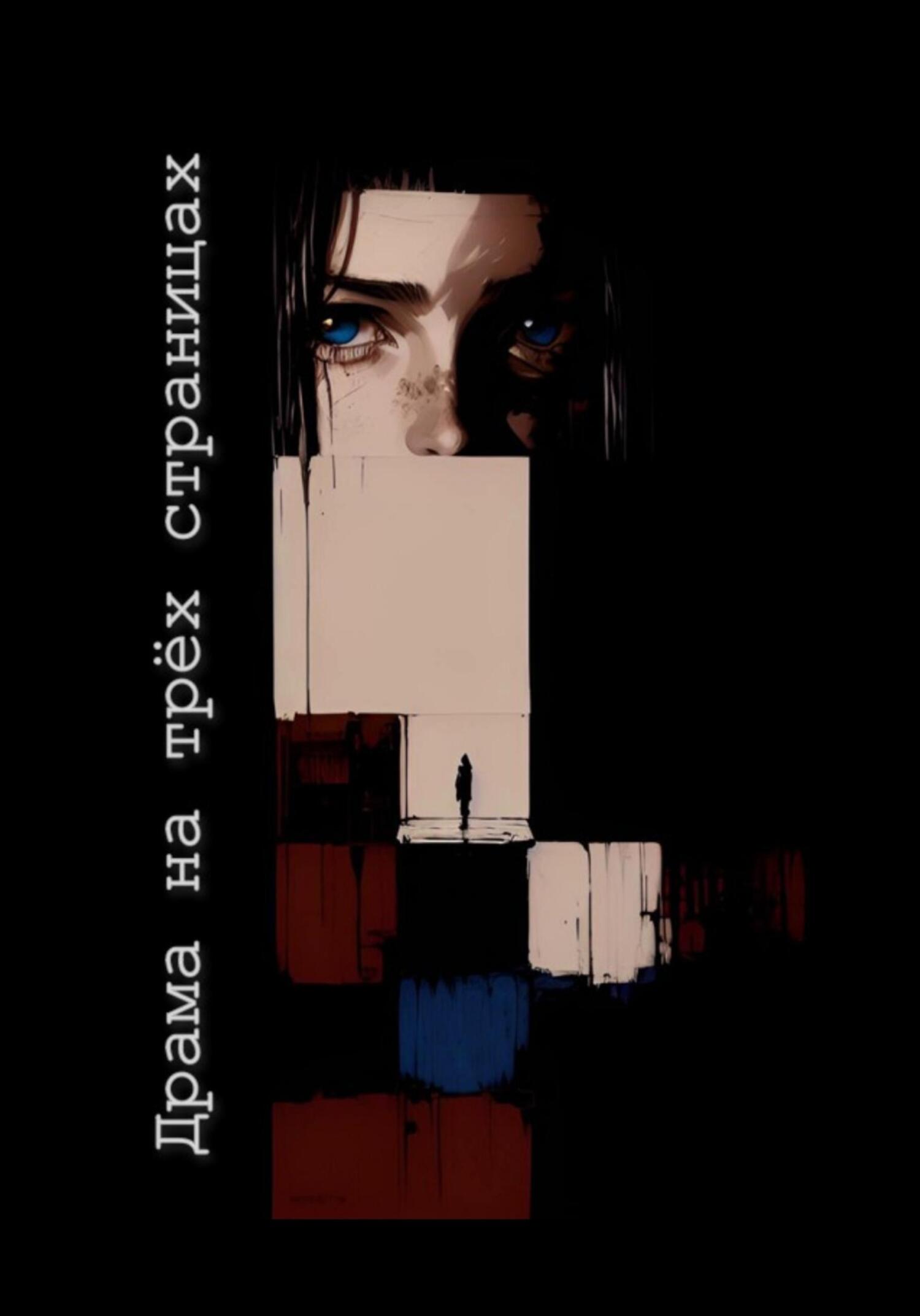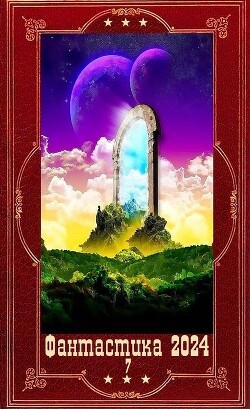мимо с родителями на маршрутке. Но это была не она. Она зияла обугленными отверстиями окон.
— Нееет, нееет, — завопил я и дёрнул ручку двери, и чуть было не вылетел из машины.
— Ты куда? Что ты? — закричала мама.
— Ну разве так можно! — выкрикнул водитель, резко остановивший машину.
Я выскочил и побежал к будке. Словно приветствуя меня, ветер распахнул обугленную чёрную железную дверь. Внутри всё было черным черно. Подбежавший папа схватил меня и потащил к машине. Но я успел, на улице, под будкой заметить полуобгоревшего солдатика. Я схватил его.
— Ну что ты делаешь? — зло отчитывала меня мама. — Вон все руки чёрные.
— Хотя бы это верну дяде Шамилю, — всхлипывал я.
— Он умер, — как-то автоматически сказал шофёр, — в ту же ночь после пожара.
— Неееееет, — закричал я, — нееееееет.
— Извините, извините, — смутился шофёр, — я не подумал, сердце не выдержало, говорят, видимо, из-за коллекции его, я тоже пацаном прибегал смотреть.
— Я тоже, — вздохнул отец.
— И я, — всхлипнула мама, обнимая меня.
Ольга Сноу. ПЕРЕНАПРАВЛЕННЫЙ ВЕКТОР
Мы выросли в девяностые. Потерянное поколение, да. Почему? В стране царил хаос: люди оставались без работы и средств к существованию, им было не до воспитания подрастающего поколения. Предоставленные улицам и самим себе, мы окунулись в «свободу». Свободу выбора, свободу от норм морали и человеческих ценностей. Любые проблемы тогда решались кулаками. Мы «забивали стрелки», дрались стенка на стенку, находя причины для этого даже в нелепых мелочах вроде неосторожно брошенного на нас «косого» взгляда. В нетопленных школах пустели классы, потому что улица была интереснее, чем попытки учителей — «осколков» Союза — вбить в наши головы что-то. Родина, Отечество — смешно. У нас не было прошлого и будущего — мы жили сегодняшним днём, а наше «сегодня» было слишком далеко от понятия «патриотизм», столь нелепо звучащего и режущего слух в атмосфере вседозволенности и мнимой свободы. До чего мы тогда дошли? До бритых голов и нашитой на чёрные «бомберы» свастики, до желания уничтожить тех, кого ещё вчера наши отцы называли братьями — до точки.
Я не знаю, чем бы и как быстро закончилась история моей жизни, если бы не одна встреча.
Поселился в нашем доме какой-то дед. Мы часто видели его на площадке. Он всегда с улыбкой смотрел на детей, щурился, поднимая глаза к солнцу, иногда отходил подальше, садился на пенёк у подъезда, курил, а потом снова возвращался на площадку. Вокруг него постоянно тёрлись подранные улицей кошки и собаки, и для каждой животины он находил какой-нибудь мякиш хлеба, ребятишкам подсовывал дешёвенькие карамельки, одиноким женщинам помогал по возможности: ковёр вытащит во двор, сумку поднимет на этаж, замок починит. Мало ли чудиков на свете: сам еле ходит, а всё норовит кому-нибудь подсобить. Человек человеку — волк. Мы с малолетства это впитали, так что не особо его понимали, называли Шизиком и обходили стороной. Он нас не трогал — мы его. Примерно через полгода въехали к нам грузины, большая семья с кучей детей, старший из которых был нашим ровесником. Решили мы парня этого на третий день переезда «поприветствовать», объяснив заодно, что стоит ему обратно на историческую родину с семьёй вернуться в кратчайшие сроки. Вызвали через его мелкую сестру к гаражам вечером. Пришёл. Один. Внутри у каждого из нас, думаю, даже капелька уважения трепыхнулась.
Это не было дракой — это было избиением. Его национальность решала за нас, отбросив даже минимальные принципы «пацанства».
Сейчас я осознаю, что мы походили на стайку обезумевших гиен, но тогда злость рвала все внутренности и выплескивалась с ударами и оскорблениями.
Нас остановил свист. Мы поначалу даже бросились в рассыпную, решив, что это участковый вспомнил, что он должен за порядком следить, но кто-то из парней окриком позвал нас обратно.
Над нашей жертвой склонился Шизик. Он бормотал что-то под нос и пытался поднять пацана на ноги. Этого мы ему простить не могли! Только вот даже у нас рука на старика не поднималась, тем более он наш, славянин.
На наши угрозы он не реагировал: с трудом поднял парнишку и, обхватив за пояс, повёл к дому. Мы преграждали путь, легонько пихали его, но он упорно продолжал тянуть свою ношу подальше от гаражей. Никто не решался по-настоящему применить силу к старику, и сейчас я благодарен небесам за то, что нас сдержало что-то. Старик все же увёл пацана домой. Мы, конечно, решили, что своё «приветствие» повторим ещё разок для закрепления.
Следующим вечером, когда мы, как обычно, устроились на площадке на шинах, Шизик вышел во двор, подошёл ближе, сел на лавку рядом с нами и молча закурил. Кое-кто начал острить на тему борцов за справедливость, кто-то — в подробностях рассказывать, что будет дальше с этим парнишкой, а кто-то просто кривился, косясь на старика. Он же докурил молча, затушил окурок, сунул в спичечный коробок, скользнул взглядом по нам, а потом вдруг словно окаменел. Я каждой клеточкой вздрогнул почему-то от этого стеклянного взгляда — Шизик смотрел на меня, на рукав «бомбера», на котором красовалась свежая нашивка.
— Фашисты, значит? — как-то сдавленно выдохнул он, опустил голову и ковырнул носком стоптанного ботинка землю. — Ну-ну…
Мы уже не раз слышали подобное, но старик говорил не со злостью или обречённостью, а с какой-то животной тоской, от которой становилось нехорошо. Никто не ответил ему. Ни один. Что-то такое было в нём, что сковывало нас и не давало сорваться.
А потом он заговорил. Тихо, надтреснуто, глухо.
* * *
Родился Шизик, или Макар Игнатьевич, под Псковом в тридцатые. Сложное время, жестокое, но кто же знал, что чуть позже о нём вся страна будет с тоской вспоминать…
Никто не был готов к войне — к такому вообще нельзя подготовиться. И уж тем более никто и представить не мог, что земля, на которой он родился и вырос, будет оккупирована, что сосед, который ещё вчера был желанным гостем в каждом доме, сегодня будет ходить по деревне с повязкой на рукаве и кричать, что служит великой Германии, что добрая тётка Сара