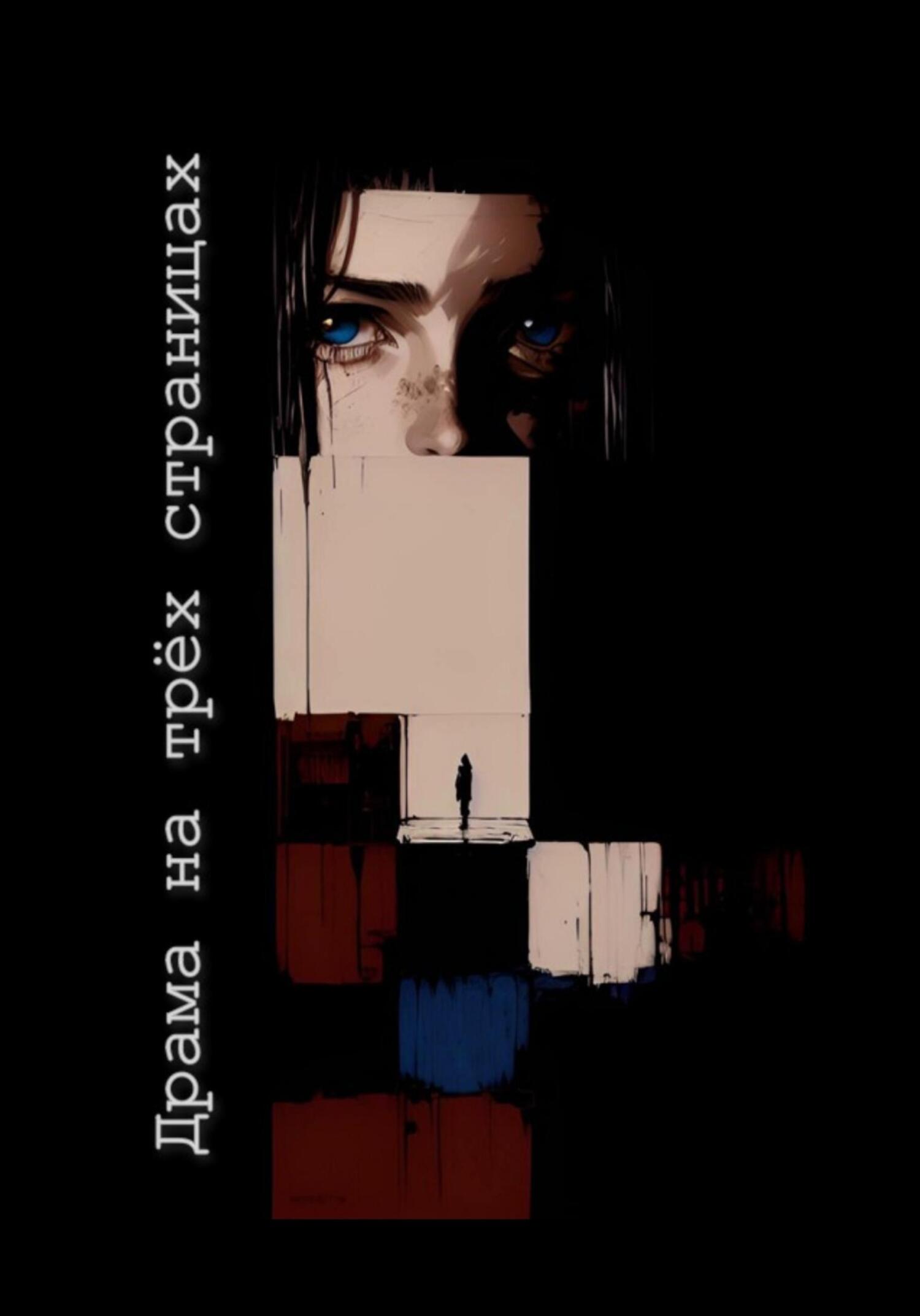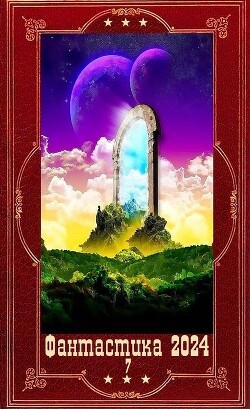Ведь лиственницы ещё никогда так щедро не сыпали хвою… Какая Она красивая с этими иглами на волосах!
— Ты самая красивая, — шепнул Он восхищенно.
— Единственная моя.
Порыв студеного ветра смел наземь несколько драгоценных золотых игл.
Он обнял любимую, пытаясь укрыть от дыхания неизвестной беды. Как защитить Ее от того, что несет с собой ветер?
— А я? — спросил Он, чтобы не молчать. — Я у тебя — единственный?
Глупый вопрос. Кроме них, здесь больше нет ни души. И всё же Он повторил:
— Единственный? Скажи мне.
«Нет», — призналась Она.
— Как это — нет? — Он не поверил и отшатнулся. Это было невозможно, немыслимо! — Нет?!
Налетевший ветер злобно бросил Ей в лицо пригоршню игл.
Он ощутил, что Ей больно. И холодно. Ее кожа сделалась ледяной. Она виновато попросила: «Прости», — и Он не колеблясь простил… неверность? Или нечто иное?
«Ты ничего не знаешь о смерти», — подумала Она торопливо, и Он вынужден был согласиться.
Что такое смерть? Её измена?
— Я все равно тебя люблю, — сказал Он, и Его слова были правдой. — И я тебя не оставлю.
Она не возразила, но Он понял, что любимая Ему не верит. И Она почему-то права.
Он обнял ее, как мог крепко, целуя лицо, плечи, руки; Он целовал Её и клялся в любви, и дрожал от сырого студеного ветра, и в его острых сухих поцелуях уже не было летнего тепла, но ещё тлели жизнь и любовь. Её неподвижное лицо было холодным, тонкие белые пальцы не просвечивали под солнцем. Она дрогла под ветром, и Он неожиданно понял, что не в Его силах укрыть Её и согреть в объятиях. Быть может, это и есть смерть — когда не можешь уберечь любимую?
«Я любила тебя всю твою жизнь», — подумала Она с горькой нежностью.
— Ты будешь любить после смерти? — прошептал Он, замерзая.
«Я буду помнить».
— Спасибо…
Угрюмые тучи закрыли солнце, сыпанули первые в этом году, крупные и жесткие снежинки. Потемневшие, в бурых пятнах, побитые осенними дождями и заморозками, листья плюща шелестели и бессильно скребли по белому мрамору, а оплетшие каменную фигурку стебли безнадежно пытались удержать тепло ушедшего лета.
Инна Девятьярова. КРОВЬ, ИГЛА, ВЕРЕТЕНО
…Потом пришла дочь. На ней была куртка холодного, серого цвета, и рыжие серьги — балтийский янтарь. Она поднималась на цыпочки, будто пытаясь взглянуть… заглянуть… за пределы окна Антонины. Окно было прочным, глухим и скрывало надежней решеток. За ним был зеленый, чудной, торжествующий май. За ним было небо и солнце. За ним поднималась на цыпочки дочь и махала руками, и губы ее шевелились, пытаясь закончить слова.
Антонина закрыла глаза. Отошла от окна. Было больно — не знать ее слов. Не услышать. Не внять. Не открыть и не выйти. Никак. Только блеклая комната — в уединенье от мая. От гулкого неба и черной земли. От прозрачного воздуха… здесь ощущался его недостаток.
Она прилегла на кровать. Голова была звонкой и легкой. Пустой, без единой цепляющей мысли. Закашлялась. Боль была колкой и яркой. Как красная вспышка. Цвела, распускалась, томила. Ворочалась острым комком…
И прорвалась наружу — надрывистым кашлем. С солеными сгустками крови. Как нож под грудиной. Входящий всё глубже и глубже. Точёное, тонкое лезвие.
Нож.
Заполошно подумалось — господи, пусть все закончится. Прямо сейчас. Нож войдет до отказа, и сердце замрёт, успокоено вздрогнув. Утихнет. Застынет. Уснёт.
В этом сне — будет лето, оно будет долгим и жарким. В нём будут цвести тополя и жужжать беспокойные пчелы. По небу — брести облака. И в одном из них — белая дверь позовет Антонину. Откроется бледно, зовуще. Послышится тихая музыка…
Звон. Несмолкаемый звон колокольчиков лета. Бедового лета, кошмаров, цветов и жары. Где она растворится средь облачных песен, и больше не будет ножа, и кровавых следов на подушке, и комнаты, тихой и страшной, как склеп, и окна, где за темным стеклом дожидается дочь.
Ждет и ждет, в бесконечной надежде. И серьги в ушах ее — точно расплавленный мед…
…истекает по капле, и горек на вкус. Мед, отравленный пчелами, что не желали его отдавать. Кто отдаст добровольно сокровище? Кто вручит дар — без обмана?
И было окно, и сиреневый вечер. И шторы — дрожали, как крылья у птиц. Антонина сидела над книжкою. Бал, и дворец, и высокие башни его. И четверка гнедых, подвозящих карету. И одетая в черное — в ней. С желтой старческой кожей. Суха. Длинноноса. Восстала — из недр позлащенной кареты. Пошла, опираясь на тонкую трость. Все застыло пред ней. Замерло, в предвкушении тайны.
— Мама, кто это? Злая колдунья? — Дочь тыкнула пальчиком в книжку. — И ее пригласили на бал? Но зачем? Она может испортить всем праздник!
Шуршащие платья. Медовые, желтые свечи. И чёрная тень на стене, с верной, тонкою тростью. Всё ближе и ближе.
— Непременно испортит, — сказала тогда Антонина. Она была много моложе. Сильней. Голос звонче. Яснее глаза. Дочь была — как воробушек, маленькой, в детской кроватке.
Придвинутый стул и ночник. Антонина читала. Дочь слушала. Губы её шевельнулись в ответ.
— Надо было прогнать ее, злую! Метлой! Пусть уходит к таким, как она! Скверным, гадким! Пусть с ними ругается! Там же принцесса!
…Принцесса. Совсем беззащитна. Слаба. На руках у кормилицы. Спит, в кружевных королевских пеленках, и феи склоняются к ней, раздавая дары. Для неё. Без остатка.
Петь. Танцевать. Быть прекраснее всех. Нежной, точно весенняя роза…
— Умрёт! — прошипела ей ведьма, тряся головой. — Когда руку уколет… — сказала она со злорадством. — Деревянным, изъеденным старостью, злым и безумным… — сказала она, и глаза ее жёлто пылали. — Веретеном! Оно крутится. Пряжа танцует. Принцесса растет. Она вырастет… и вот тогда — они встретятся. В нужный, означенный час.
И смеялась. И страшно торчали клыки изо рта. И плясала нервозная трость, выбивая чечетку. И всё погрузилось в печаль…
А потом кто-то робко сказал,