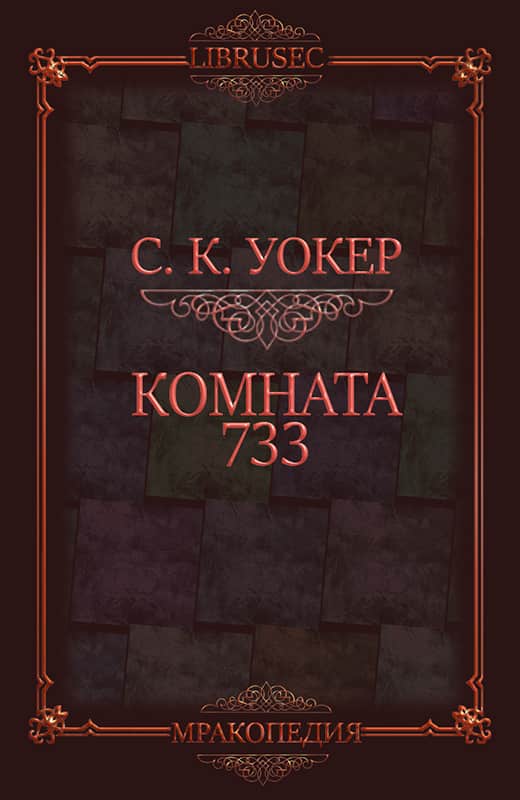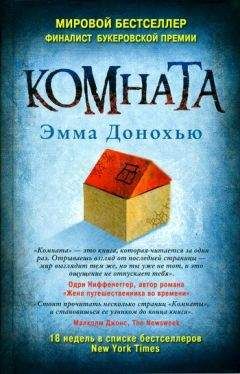то, что искала: маленькую сумочку на выход из черного шелка и перламутра — ее она одолжила много лет назад у одной подруги, но так и не вернула. Внутри лежала коричневая склянка с таблетками. Все до одной на месте, завернуты в статью, которую она когда-то вырезала из газеты. Это было наставление врача: однажды какой-то психиатр предостерег его, что определенный вид снотворного, обычно считающегося безвредным, даже в небольших дозах может привести к смерти. Лизе без труда раздобыла пятьдесят штук и с того момента полюбила доставать склянку и держать ее в руках — это даже внушало ей чувство безопасности. Она сама назначила день своей смерти — день, когда Вильхельм бросил ее. Лизе никогда не намеревалась дожидаться естественной, или, как говорили с недавних пор, достойной смерти. За последние три года она похоронила мать, брата и отца. Мать еще задолго до того, как ее сердце остановилось, сильно состарилась и стала беспомощной. Никто не верил, что ее муж сможет пережить такую потерю. Он был на десять лет старше ее. Но сообщение о кончине жены не произвело на него никакого впечатления.
А вот после смерти Эдвина, брата Лизе — страшной смерти от рака, — отец надломился и заявил, что нет ничего ужаснее, чем пережить собственных детей. Он почти перестал слышать, правда, Лизе и до этого с трудом удавалось беседовать с ним. По его словам, умереть было единственным его желанием. Отцу исполнилось девяносто, а через несколько месяцев его не стало. Хотя Лизе и не была особенно с ним близка, после его ухода она почувствовала, что перенеслась в самое старшее поколение. Но больше всех ей не хватало Эдвина. Они вечно болтали о своем детстве, теперь же она осталась с ним наедине. Не существовало больше никого, кто мог бы рассказать ей вещи из этого детства, которых она сама не помнила. Лизе чувствовала себя брошенной, навещать семью брата она не любила: в их доме всё по-прежнему стояло на прежних местах, будто он жив. Под своими словами Курту «он не вернется» она частично имела в виду и своего брата, который так любил жизнь и никогда бы не испытал счастья, сжимая склянку со смертельными пилюлями.
Лизе разорвала статью в клочья и выбросила в мусорную корзину. Склянку убрала на прежнее место, но этот образ уже не покидал ее. Стоило прикрыть веки — и вместо привычной темноты ей мерещился затейливый танец коричневых осколков и белоснежных таблеток: они проплывали, то сходясь, то чередуясь, то прячась одни за другими, изящно и ритмично, словно под музыку рококо. Жаль, об этом некому было рассказать. Лизе вспомнился давний оккультный период Вильхельма. Он утверждал, что, сфотографировав сетчатку глаза убитого человека, можно увидеть на снимке преступника. Ей это тоже стало казаться возможным. Но поговорить о самых важных вещах в мире было не с кем. И она уже вошла в другую плоскость существования, где возможна настоящая любовь, — но лишь немногим удавалось туда попасть. Она проголодалась — скорей бы приготовилось то блюдо с грибами. Жаль, Вильхельму не доведется попробовать. Как же он расстраивался, что она всегда садилась за стол без удовольствия, без здорового аппетита, и, чтобы поднять ему настроение, она зачем-то сказала, что всё вкусное либо делает толще, либо развращает. Это его позабавило. Эй вы, враги Вильхельма (он хвастался, что похож на Эдварда Брандеса с его славой самого ненавистного человека в Дании), слышали бы вы его смех, эти грустные и редко используемые звуки со дна его души — плескучий каскад звуков, напоминавший первую ржавую струю из давно сломанного крана: она вдруг восторженно растекается по рукам, плечам, спине, — даже во время эякуляции смех выплескивался и заражал всех его женщин…
В тот вечер трое — или, скорее, каждый сам по себе — хорошо проводили время, и поэтому находили удовольствие в обществе друг друга. Том побыл рядом с девушкой, благодаря чему успокоилась некая тревога, которую он в последнее время испытывал из-за своей непохожести на других в одном важном вопросе. Курт с трудом представлял себе возвращение в постель херре Томсена — к этой темноте и вони, к похотливой кучке трясущихся костей, обтянутых заплесневелой кожей, к чистому и подлинному уродству. Когда Лизе прижалась щекой к его плечу, он сам того не осознавая, принял решение. Щека всё еще горела, и Курт ошибочно принял это за приглашение — теперь, когда Лизе потеряла надежду, что Вильхельм вернется. Она же к обоим относилась с любовью и радостью, расхваливая еду или рассказывая о пьяном коротышке-антикваре, у которого как-то раз выторговала бронзовые подсвечники. Тот потребовал сто крон за штуку, но в итоге продал по десять. Лизе взяла их, потому что Вильхельм упрекал ее, что она совсем не разбирается в антиквариате. Он предъявлял подобные претензии ни с того ни с сего, но она всегда на них покупалась. Через несколько дней он заявил, что она обращала внимание на веяния моды только десять лет спустя после их появления. Она тут же бросилась за советом к первой попавшейся маковой барышне (ее имя давно забыто) и отправилась с ней в универмаг, где они выбрали пальто длиной до колена, с меховой отделкой по подолу, на шее и рукавах. Вильхельм же только заметил, что это слишком дорого (хотя она сама за всё заплатила) и что ему нравятся женщины, которые не придают одежде совершенно никакого значения, зато умеют вести оживленную беседу. Тогда Лизе провела весь день в халате за чтением «Жизни с Сартром» [10] Симоны де Бовуар, чтобы стать хоть чуточку интеллектуальнее.
Эту душераздирающую метаморфозу заметили все, кроме Вильхельма: он совсем не отвечал за свои слова. Когда в его жизни появилась Хелене, он стал утверждать, что примитивные женщины с набитой повседневными банальными мелодиями головой неотразимы. В те дни Лизе была погружена в работу над книгой, которая принесла ей премию министерства культуры за достижения в области детской литературы, и Вильхельм на время (но судьбоносно) полностью исчез из ее головы. Она обо всем поведала своим двум слушателям, ведь это было так забавно и трагично — в конце концов, на кону стояла ее жизнь. Мальчик отважился спросить ее, можно ли Лене прийти к ним домой на чай. Курт рассказал, что когда-то ему нравились ночные прогулки по Копенгагену, и она предложила: «Почему бы тебе не прогуляться? Глупо сидеть взаперти, как коту — тебя-то, по крайней мере, не кастрировали!» Они с Томом рассмеялись, а лицо Курта приняло серьезное выражение. Он надел дубленку Вильхельма, признал, что Лизе