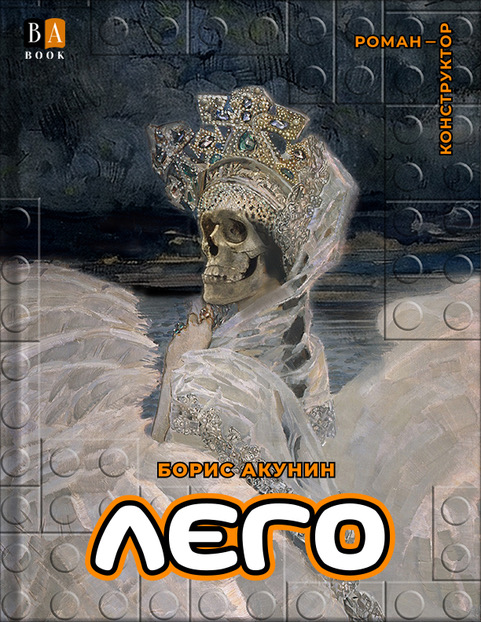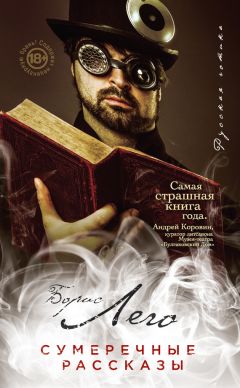бросил, словно перчатка жгла ему руки. На столе лежала газета. Пароходное расписание обведено карандашом.
«А, вон оно что, — кивнул сам себе Картузов. — Наверно, она мужу что-то рассказала про вчерашнее. Обычная женщина не стала бы, но она необычная. Туберкулезные больные на последней стадии порывисты, он вскинулся, сорвался, тем более как раз пароход в Ялту, Климентьевы ведь оттуда. Она — за ним. Ну так оно и лучше. Нечего об этой ерундистике больше думать».
И перестал. Занялся тем, ради чего прошел пешком десять верст.
— В нужник мне надо, — сказал он. — А ты, тетка, квасу пока из погреба принеси. Есть у тебя квас?
— Молоко е.
— Что я тебе, телятя, молоко пить? Ну, воды что ли дай холодной. На вот тебе. И калитку запри. Мало ли кто шастает.
Сунул гривенник, вышел.
Вытирая пот — припекало солнце, — поглядел на улицу и прошел к латрине.
Дело у Картузова в Ак-Соле было такое.
Екатеринодарские товарищи, черти драповые, на прошлой неделе провернули аховую штуку: напали на карету казначейства и взяли пятьдесят тысяч. Партии были адски нужны деньги, одними взносами на ссыльных жить она не могла.
Закавыка в том, что купюры были специальные банковские, пятисотрублевые, все номера зарегистрированы, так просто не потратишь.
Умная голова, а чья именно Картузову знать было незачем, придумала толковый план. Сговорились с керченскими контрабандистами, что те обменяют на мелкие купюры из расчета два к одному.
Третьего дня связной привез завернутую в платок пачку. Оставил инструкцию: жить как обычно, но деньги всё время держать при себе. Подойдет человек, неизвестно кто и когда. Люди это осторожные, сначала захотят убедиться, нет ли слежки. Тому, кто произнесет условленную фразу, надо передать сверток, а прочее не Егорова забота.
— Я и сам с усам, — ответил Картузов связному. — Не первый год замужем, слежку почую. Тут ведь Тамань, каждый чужой гвоздем торчит. Езжай в Керчь, передай: если у меня на пальце перстень, вот этот, значит, всё в порядке. Если перстня нет — пусть не подходят.
На том и договорились. Врачу, не расстающемуся с медицинским саквояжем, носить с собой пачку из ста бумажек нетрудно. Позавчера Картузов делал обычные визиты в городе, никто к нему не подошел. Вчера, отправляясь в Ак-Сол, к Климентьевым, тоже имел сверток при себе. И вышла скверная штука, во всяком случае подозрительная.
Мимо дома проехал городской извозчик, и седок прятал лицо под низко надвинутым котелком — обычная филерская манера. Сезон кончился, отдыхающих мало, за каким чертом сюда ездить?
Береженого бог бережет, а ученого ум. Картузов спрятал деньги в отхожем месте, под доской пола, выковыряв скальпелем гвоздь, а потом вставив обратно.
Перстень он убрал в карман, в городе глядел в оба, а сегодня нарочно устроил себе десятиверстный моцион. На открытой степной дороге к пешему хвост не пристроишь.
Исходить всегда нужно из наихудшего, тогда никакая каверза тебя врасплох не застанет — этим правилом Егор руководствовался сызмальства. А наихудшее могло заключаться в том, что екатеринодарский связной, его кличка была Стриж, под слежкой. Парень он хороший, но молодой, мог не заметить. Охранка не знает, что Стриж перевозит деньги, иначе взяли бы — они после экса бешеные. Должно быть, держат на подозрении, выясняют, с кем встречается. Если так, то сейчас уже принюхиваются, что за лекарь такой Картузов поселился в Тамани. А это нехорошо, совсем нехорошо. Запросят по телеграфу Центр, там по приметам прошерстят ихнюю поганую картотеку и отобьют «молнию»: нет никакого Егора Фомича Картузова, а есть давно разыскиваемый супостат, настоящее имя которого — вчерашний и даже позавчерашний день, так что незачем и вспоминать. Как говорит поэт Пушкин: «А живы будем, будут и другие».
Человек, которого на самом деле бог знает как звали, но пусть уж остается Егором Картузовым, надо же его как-то называть, произнес стихотворную цитату вслух, повеселевшим голосом, потому что сверток с деньгами был на месте.
— Ну вот и всё, — прошептал Картузов, поднимаясь с корточек. — Дальше просто.
Нормальному человеку то, что он собирался делать дальше, простым бы не показалось, но у Картузова всё, требовавшее ясного и логичного действия, считалось простым. Не то что ситуация с Антониной Аркадьевной и вызванными ею черт-те какими сновидениями.
Возвращаться на городскую квартиру и вообще в Тамань он не собирался.
— Первое — нанять лошадь и в порт. — По привычке Картузов проговаривал план вслух, засовывая пачку на самое дно саквояжа. — Второе — паромом в Керчь. Третье — отдать Кречету. Четвертое — новые документы, и…
Что такое «и», он не сказал. Его лицо на миг утратило чугунность, будто помягчело.
«Кречет» был керченский товарищ, договорившийся с контрабандистами. Пускай теперь произведет обмен банкнот сам, а Картузову, согласно правилам конспирации, надлежало сменить кожу и на время «залечь на дно», оборвав все партийные связи. Отчего же не залечь, скажем, в Ялте — вот что означало «и», от которого у Егора сделалось горячо под ложечкой.
Он тряхнул головой, криво усмехнулся, буркнул: «Романтик в отхожем месте» и вышел из будки.
«А что? — уже мысленно продолжил он, всё больше волнуясь. — И очень просто. Громадное дело будет сделано, заняться нечем, а женщина такая, что… С ума сойти какая женщина. Струшу — всю жизнь потом жалеть буду. Как тогда, в ивняке».
Вспомнился давний случай, который много лет не давал ему покоя и в прежние времена даже снился, заканчиваясь не так, как произошло наяву.
На пятнадцатом году Алёха — так в ту пору звали Картузова — был крепкий парень, выглядевший старше своих лет, ушедший от хозяина, которому его, сироту, отдали в мальчики, и живший сам по себе, при речной пристани. Время было летнее, снизу приходили баржи с арбузами, Алёха подряжался на разгрузку за полтину в день. Хватало на еду,