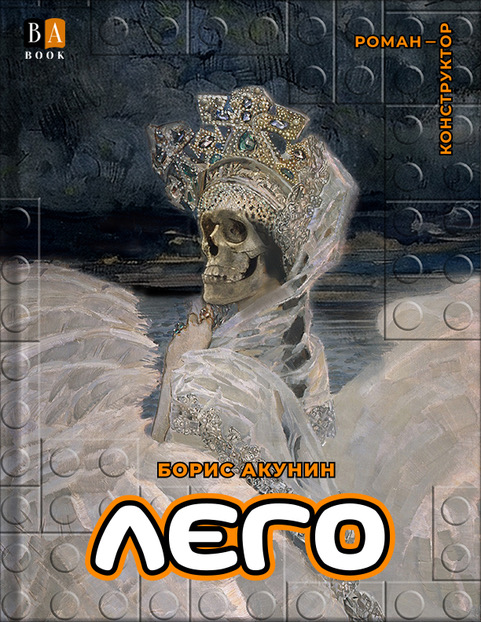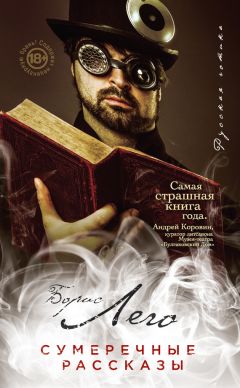надо.
Успокоившийся и повеселевший, Картузов перебежал к окну, осторожно выглянул. Ему пришло в голову, что чем зря переводить пули, не толковей ли будет нанести какому-нибудь казенному человеку «проникающую огнестрельную травму с повреждением мягких тканей, костей и внутренних органов», как написано в премудром учебнике Красовского «Полевая хирургия».
Один засел за колодцем, не достанешь. Другой за поленницей, тоже трудно. Осторожные черти. Тут из-за угла латрины высунулась усатая морда в фуражке, рука с револьвером. По морде Картузов и пальнул. Спряталась.
Затаился в тени, стал ждать, когда морда снова выглянет. Было азартно, как на утиной охоте.
В следующий раз почти получилось — над самой фуражкой от стены брызнула белая труха.
Оставался один патрон. Картузов немного поколебался, но решил не стреляться. Во-первых, к черту мелодрамы. Во-вторых, последняя речь на суде — тоже способ борьбы. В-третьих, очень уж хотелось попасть в усатого.
Но день у Картузова сегодня был невезучий. Он промазал и в третий раз, поторопился.
Бас закричал:
— Вперед, ребята, пока заряжает! У него «наган»! Живей!
Подойдя к зеркалу, Картузов сказал своему отражению:
— Ничего, Алёха. Жили — небо не коптили.
Там же, в зеркале, он увидел, как в дверь, толкаясь плечами, вваливаются двое цивильных, за ними какой-то в мундире. Показал им пустые руки, чтоб с перепугу не застрелили. Медленно, с улыбкой повернулся.
IV
Час спустя, с избитым, страшно распухшим лицом, Картузов сидел, привязанный к стулу, и скалил рот, в котором торчали осколки зубов.
— Хватит, Филимонов, — сказал жандармский ротмистр, та самая усатая морда, что недавно пряталась за нужником. И бас был его, богатый. Должно быть, чувствительно поет на музыкальных вечерах, подумал Картузов, такие упыри любят музицировать.
Фамилия жандарма была Спирин, он вначале, пока изображал Европу, с грозной вкрадчивостью представился.
Был он несколько странен несоответствием большой, багровой, словно раздутой головы с длинным, вихлястым телом. Ни секунды не оставался без движения — хрустел пальцами, позвякивал шпорами, расстегивал и застегивал ворот.
Ротмистр перепробовал всё: был и логически-убедителен, и величественно-грозен, и ласков, и свиреп. Ему хотелось знать, зачем Картузов в Тамани, в каких он отношениях с Климентьевыми, почему те срочно съехали и куда направились, что за бумаги сожжены в тазу, а более всего — не причастен ли арестованный к ограблению казначейства. Спирин заявил, что твердо знает о причастности, так как «сообщник во всем чистосердечно признался», но по глазам было видно: врет — щупает наудачу.
Картузов таких дерганых видывал прежде и хорошо знал, что больше всего их бесит не дерзость, а молчание. Он и молчал, только насмешливо улыбался. И ротмистр скоро вышел из себя.
Приземистый филер с коротким ноздристым носом, сняв пиджак и засучив рубашку, умело и аккуратно бил арестованного в живот и по лицу, выкручивал пах. Картузов орал во всю глотку, а когда филер прерывался, чтобы утереть пот, снова ухмылялся.
С отвращением глядя на неузнаваемо распухшее лицо, на котором лихорадочно и жутко из синеватых щелей блестели глаза, ротмистр сказал:
— Пустая трата времени. Я таких видывал. Ну что с тобой прикажешь делать, Митрохин? Везти тебя в тюрьму? Чтоб ты еще три месяца мучил следователя, а потом напоследок покрасовался на суде? Еще и сбежишь, тебе не впервой. Нет, душа моя. Ты стрелял по полиции, а это виселица. Что тянуть, государственные деньги тратить? Я прямо сейчас приговор и исполню. Будешь числиться как застреленный при вооруженном сопротивлении.
Он вынул револьвер, откинул барабан, вставил недостающие пули.
— Думаешь, пугаю? — Ротмистр отошел на два шага, поднял дуло. — Последний шанс. Подумай. Не когда-то там, через несколько месяцев, да может еще и выкрутишься, а прямо сейчас, здесь.
Психолог, подумал Картузов и выплюнул сгусток крови.
— Ну гляди. Отойди, Филимонов, забрызгает.
Правда выстрелит, понял Картузов, смотря в черную дырку. Не будет Ялты. Ничего не будет.
И ничего не стало.
Часть четвертая
БУБА
ШУСТЕР И РИОРИТА
Гром среди ясного неба
Однажды в начале октября, то есть в разгар сезона, по заслугам называемого «бархатным», в самое лучшее время южного дня, рано утром, на станции Тамань с московского поезда сошла молодая женщина, во внешности которой обычный человек, пожалуй, не заметил бы ничего примечательного, но человек проницательный сказал бы себе «однако!» и проводил бы пассажирку долгим взглядом. Впрочем никого проницательного на платформе не оказалось, и женщина — в руке ее покачивался замшевый чемоданчик — вышла на станционную площадь, не обратив на себя ничьего внимания.
Мы и сами затруднились бы сказать, что именно в ее лице было такого уж поразительного. Разве вот что. Ночью благословенную, но суховатую Тамань омыла гроза, после нее воздух стал свеж и сладостен, так что даже у железнодорожного милиционера смягчилась его суровая, застегнутая на все пряжки душа, и всему — природе, людям, бродячим собакам — захотелось жить и радоваться, а у приезжей были совершенно траурные глаза, и мерцало в них некое зловещее сияние, смысл которого затруднился бы определить даже человек проницательный.
Одета женщина была очень хорошо, так что сразу угадывалась столичная жительница, да не из каких-нибудь Печатников, с Шестой Шарикоподшипниковой улицы, а с самого что ни на