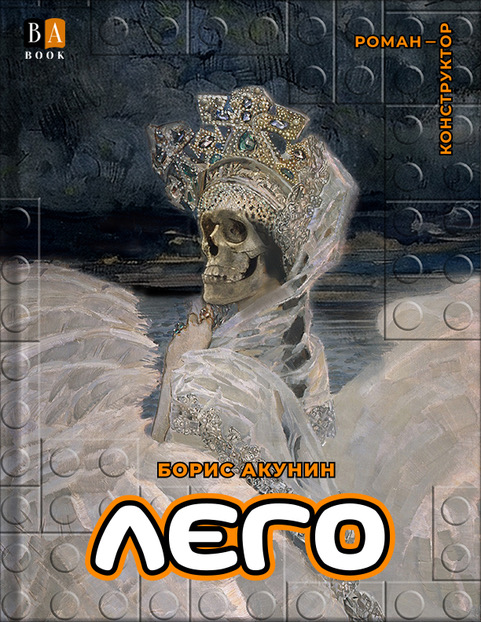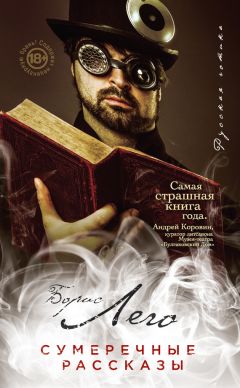на угол в бараке, и на книжки, еще и по гривеннику на зиму откладывал — был не по годам расчетлив.
Как-то шел он густым ивняком вдоль берега, вдруг видит — шитовские озоруют. В Шитовской слободе, за складами, жили лиховатые ребята. Ходили стаей, чужих били, а попадется кто «жирный» в пустынном месте — налетали гурьбой, сшибали с ног и «сымали жир», грабили. Полиция в слободу не совалась. Алеху шитовские не трогали, знали, что он в драке бешеный и что у него за голенищем нож.
И вот видит он: трое — Пыж, Муха и Куцый — из самых отчаянных шитовцев, треплют чистенькую парочку, за каким-то лешим забредшую в эти места. Не иначе приезжие. Пыж держит за ворот гимназиста, Муха шарит ему по карманам, Куцый крутит руки девочке в красивом жемчужном платье, колечко хочет сорвать или что. Гимназист пищит: «Что вы делаете!», барышня тоненько вскрикивает.
Алёха сплюнул, хотел пройти мимо. Не имел повадки соваться куда незачем. Но дернула его нечистая взглянуть на барышню. У той лицо тонкое, глаза большущие, светятся. Лет четырнадцать ей или пятнадцать — как Алёхе. И нашло на него что-то, влез не в свое дело. Пришлось нож из сапога доставать, иначе одному с троими было не справиться. Пока махал железкой, пока шитовские наскакивали, гимназистик убежал, размазывая красную юшку из носа, но барышня стояла, прижимала руки к груди. Наконец, после того как Алеха чикнул Куцего по локтю и тот заорал, заматерился, шитовские ушли, пообещали после подкараулить. И подкараулили, о том на память шрам под лопаткой, про это-то Картузов давно и вспоминать забыл, тем более что шрама на спине не видно. Но как девочка на него посмотрела своими огромными глазами и тихо спросила: «Кто вы?» — вот это долго помнил.
Не ответил он тогда, повернулся и ушел. Потому что она была чистая, в красивом платье, и с глазами, в которые страшно заглянуть, а он дрань и рвань, ночлежный житель. И не было ничего. Может быть, и девочки никакой не было, примерещилась. А только из-за нее, примерещившейся или нет, он себя вытащил за волосья из грязной жизни в настоящую. Выучился сначала сложным наукам, потом простой — про самое главное.
«Может, это она и есть, — думал Картузов, моя во дворе запачканные о доску руки. — Не в физическом смысле, потому что у той глаза были карие, а у этой голубые, а в смысле — Она». Только что ему было не по себе, и вдруг сделалось празднично, он даже запел хрипловатым голосом, фальшивя, про чудное мгновенье.
Но на словах «гений чистой красоты» осекся, потому что заметил краем глаза какое-то движение по ту сторону плетня — движение, которое могло иметь только одно значение: там кто-то прятался, и не один человек.
Сразу же, без колебаний — в решительные минуты Картузов не раздумывал — он подхватил с земли саквояж и побежал к дому, расстегивая замок.
III
На пороге он столкнулся с хозяйкой. Схватил ее за руку, столкнул с крыльца, крикнул:
— Уноси ноги, старая!
Через плетень уже лезли, он трещал. Кто-то с размаху бил в калитку, зыкнул раскатистый бас:
— Открывай! Полиция!
Нащупав во внутреннем кармане саквояжа револьвер, Картузов не целясь и не оборачиваясь выстрелил, чтоб попрятались. Треск и удары сразу прекратились.
Пробежав через дом, он выглянул в окошко, выходившее на другую сторону, в сад. Меж смородиновых кустов белели тульи фуражек.
Картузов пустил пулю и в том направлении. Вернулся в горницу, быстро осмотрелся.
Раздался звон, на стекле появилась дырка, посыпались осколки. Снаружи тоже начали стрелять. На столе лопнула керосиновая лампа, от мазаной стены полетела крошка.
— Сдавайся, Митрохин! — крикнул тот же что давеча басистый голос. — Дом окружен! Не уйдешь!
Услышав свою настоящую фамилию, Картузов без труда вычислил, как было дело.
Получили из Центра «молнию», кинулись на таманскую квартиру, откуда он утром ушел через черный ход. Потом решили наведаться туда, куда «объект» заезжал накануне. Вообразили, что тут явка.
Неважно. Сейчас имело значение только одно. Уничтожить деньги. Иначе намертво вцепятся в Стрижа, который наверно уже взят, и вытрясут из зеленого парня всю цепочку, они это умеют. Когда им очень надо (а им надо позарез), они не миндалят, Европу не изображают, снимают намордник с Азии.
На четвереньках, чтоб не задело пулей, Картузов (Митрохина что вспоминать, был да сплыл) добрался до прикроватной тумбочки. Там стоял медный тазик, куда чахоточный сплевывал после кашельного приступа. Наскоро, безо всякой брезгливости, протер дно рукавом. Достал сверток, развернул, высыпал банкноты.
— Выходи, Митрохин! Не валяй дурака!
Кричали уже из двора. Открыли-таки калитку.
Он выстрелил в третий раз. Осталось четыре заряда, не сбиться бы.
В комнате снова застучало, залязгало, зазвенело. Били с обеих сторон — и из двора, и из сада.
«Плевать. Под пулю не полезут», — сказал Картузов сам себе, чтобы не дрожали руки. Чертовы нервы всё же растрепались, уже вторая спичка ломалась в пальцах.
Но вот одна бумажка занялась, стала чернеть с краю, загибаться. Разгорелся маленький, но жаркий костер. Минута-другая, и останется только пепел.
Четвертую пулю для симметрии Картузов пустил в сад. Вернулся к пылающему тазику, где уже догорали пятьдесят тысяч, и остался недоволен. По обгорелым клочкам увидят, что сожжены деньги, и догадаются, что вышли на след екатеринодарского экса. Надо, чтобы подумали, будто он жег секретные бумаги.
Пригнувшись, он вернулся к столу и схватил газету. В углу истерично задребезжал струнами рояль, в него попало рикошетом.
Картузов вспомнил, что видел нотную тетрадь. Взял и ее.
Вот теперь костер получился серьезный, какой