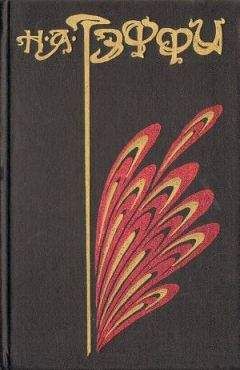В душе ее не было больше ни страха, ни боли. Ничего. Удивление съело и вытравило все.
– Папочка-то! А? – шептала она, разводя руками. – Папочка-то наш, – каково?!
Второй звонок.
Томный молодой человек, в рыжем пальто, с розой в петличке, наклоняется из окна и жмет руку приятелю.
– Ах, еще просьба: я забыл послать Мане телеграмму. Телеграфируй ей от меня.
– Что же телеграфировать?
– Телеграфируй: «люблю, тоскую, твой». Адрес помнишь?
– Помню.
На площадку вагона впрыгивает барышня в синей вуали. Снизу офицер подает ей букет.
– А Коле не забыли телеграфировать?
– Успела, успела, – отвечает барышня. – Всего три слова: «люблю, тоскую, пишу».
Третий звонок.
Замахали руки, платки, шляпы.
– Пишите! Пишите! Кланяйся! Пиши!
– Где мое пальто? – надрывается чей-то голос.
– Телеграфируй!
– Носильщик! Носильщик!
Высокий, толстый господин звонко чмокнул провожавшую его жену, вскочил на ходу и, скосив глаза на соседку в синей вуали, ожесточенно замахал шляпой.
* * *
Две дамы у окна познакомились и угощают друг друга конфетами.
Их сблизило навеки то, что обе знали в молодости мадам Кузякину.
Теперь они обсуждали сложный семейный вопрос той дамы, которая постарше.
– И знаете, – рассказывала она, – это была такая нежность, такая преданность! Я тебе, говорит, буду писать еже… еже… не помню что. Но, во всяком случае, «еже» было сказано.
– Каково! Каково! – сочувствует дама помоложе.
– Ну-с, попрощались мы, разъехались. И можете себе представить, – ни одной строчки. Вот вам и «еже». Я с ума схожу, телеграфирую каждый день: «Люблю, тоскую, пиши, отвечай». Ни слова.
Томный молодой человек в рыжем пальто томно смотрит на барышню в синей вуали и пишет телеграмму за телеграммой. Он, верно, очень деловой; у него даже бланки взяты с собой.
Барышня украдкой подсматривает, читает:
«Кострома Любиной Люблю тоскую пиши. Владимир»
«Москва Танчиной Люблю тоскую твой»
«Берлин Restante А. В. Jedu liubliou toskoujiou».
Барышня вздыхает, задумывается, вырывает два листка из записной книжки и царапает на них ломающимся карандашиком: «Люблю, тоскую, пиши, пишу, твоя».
Потом надписывает на каждом по различному адресу и просит кондуктора отправить депеши с первой же станции.
В Двинске выскакивает из вагона толстый господин, чмокнувший свою жену, бежит на телеграф и нервно пишет две телеграммы.
Одну в Женеву:
«Jedu lublu toskuju twoj».
Другую – в Петербург, госпоже Мурер:
«Люблю, тоскую продай лианозовские Мурер».
Ночью кондуктор передает барышне в синей вуали телеграмму, посланную на ее имя вслед поезду.
Барышня стоит на площадке, рядом с рыжим пальто. Пальто уже без розы. Роза у барышни за поясом.
– Опять от него! – говорит барышня, распечатывая телеграмму.
Оба читают:
«Люблю, тоскую, пиши. Николай».
В Вильне барышня выходит. Рыжее пальто прощается с ней томно, долго и многозначительно.
Толстый господин снова на телеграфе:
«Петербург. Госпоже Мурер. Забыл запереть письменный стол люблю, тоскую держи рыбинские Мурер».
Через два часа рыжее пальто отправляет телеграмму в Вильну:
«Встреча неизгладима люблю, тоскую ваш».
* * *
Усталая телеграфистка узловой станции терла одеколоном запавшие желтые виски и отстукивала на аппарате:
«Нижний люблю, тоскую, вышлю…»
«Москва люблю, тоскую… пиши скорее… Ляля…»
«Ростов-Дон… Володя, где ты?.. Люблю, тоскую…»
Она закрыла на минутку глаза, покачнулась, потерла виски и снова застучала аппаратом.
Голова кружилась. Чтобы не спутаться и не пропустить, она шептала:
– Люблю, тоскую. Нежно. Люблю, тоскую.
Привычная рука отстукивала машинально привычные слова. Глаза слипались.
«Люблю, тоскую, хочу видеть».
«Люблю, тоскую, транспорт гусей задержан…»
«Люблю, тоскую, рыба гниет…»
«Люблю, тоскую товарный № 17 сошел с рельсов… Люблю, тоскую машинист пьян…»
«Люблю, тоскую кондуктора Коркина уволить немедленно…»
Люблю его, ненавижу, жить без него не могу, чтоб он лопнул!
Ни одно существо в мире не может так нетерзать человеческую душу, как он.
Начать с того, что каждый человек может говорить только своим голосом и только те неприятные вещи, которые ему свойственны.
«Он» может говорить всеми голосами мира и изводить вас неприятностями целой вселенной.
Не изменяя своего облика, он – все.
Он – дама, томящая вас двухчасовой ерундою; он – конторщик из «электрического освещения», требующий уплаты по счету; он – друг, который по необъяснимым причинам не может прийти к обеду; он – портниха, объявляющая, что платье не будет готово к сроку.
У него все голоса и все возможности причинить вам этими голосами всякую гадость.
Вот сейчас он висит на стене и так невинно смотрит на меня своими кнопками, точно я клевещу на него. Но меня не надуешь. Я знаю, на что он способен!
– Трррр!
Бегу, бегу! Хо! У меня есть чутье! Предчувствие меня еще никогда не обманывало. Сейчас мой милый, милый телефон скажет мне хорошо знакомым голосом одну очень неприятную новость. Хо! Я все знаю.
– Тррр…
– Слушаю! Слушаю!
– Будьте добры: десять фунтов вязиги к нашему счету…
– Чего?
– Вязиги, вязиги…
– Да вы не туда звоните. Вешаю трубку.
– Тррр…
Ну, на этот раз уж я знаю!
– Я слушаю! Я слушаю!
– Будьте добры: десять фунтов визиги к нашему счету.
– Вы не туда! Дайте отбой.
Жду. Теперь должен позвать меня тот голос. Не стоит отходить от телефона. Он должен был говорить не позже двенадцати, и теперь ровно двенадцать.
– Тррр…
– Ура! Я слушаю!
– Милая! – зашепелявил телефон. – Как я рада, что застала вас. Что вы поделываете?
– Кто говорит?
– Анна Павловна. Неужели не узнали? Так соскучилась без вас. Что поделываете?
– Безумно занята! Работаю. Должна к часу сдать работу, а теперь уже двенадцать. Прямо в отчаянии.
– Так вы бы погуляли.
– Это, конечно, было бы дельно, но от этого работа не подвинется.
– Ах вы, бедняжка! Ну, работайте, работайте, а я вас развлеку. Вы знаете, Катя нашла себе дачу…
– Простите, Анна Павловна, но я ужасно занята.
– Ну, работайте, работайте, я ведь вам не мешаю. Дала задаток за эту дачу двести рублей, а теперь раздумала…
– Если позволите, я к вам позвоню через полчаса.
– Отлично. Целую вас, милочка.
– Дззынь!
«Дзззынь», – сказал «он», и сказал так мило, звонко и весело. Но все равно. Он мне несимпатичен.
– Тррр…
– Слушаю!
– Будьте добры: десять фунтов вязиги к нашему счету. Я говорю несколько слов отчетливо и внятно, но повторять эти слова мне теперь не хочется.
Потом сажусь и думаю.
Теперь половина первого. К пяти часам вчерашнего дня я должна была закончить пьеску. Я дала слово, я должна. И вот…
Снять трубку? А то важное, что я должна и хочу услышать? Нет, не могу.
Велеть подходить прислуге? Но телефон около моего письменного стола, а прислуга далеко, и пока я ее вызвоню, телефон может замолчать, и, конечно, это случится именно с тем звонком, которого я жду.
– Тррр… Не подойду.
– Ксюша! Ксюша! Скорей к телефону. Если Анна Ивановна, – дома нет. Если из театра, – дома нет. Если из журнала, – дома… Если из…
– Тррр…
– Кто говорит? А я не знаю, дома ли они.
Ксюша спрашивает меня глазами, дома ли я. Я спрашиваю ее глазами, кто говорит.
– Женский голос? – шепчу я.
– Не могу понять. Не то дамский, не то женский. Не разобрать.
– Как не то дамский, не то женский? Давайте трубку сюда.
– Дома? А? – пищит странный бабий голос.
– Дома! – недоумеваю я.
– Ага! – говорит баба. – А пьесочка готова?
– Господи! Кто же это говорит?
– Режиссер Раздольев. Я, извините, охрип. А вы ведь дали слово.
– Готова, готова. То есть через полчаса. Как же, вполне готова.
Я вешаю трубку и с тихой яростью ударяю кулаком по очереди кнопку А и кнопку Б.
– Тррр…
Я все-таки надеюсь…
– Будьте добры: десять фунтов визиги к нашему счету. Как странно скрипнули мои зубы!
– Куда? – спросила я.
– Да Варашеевым же!
– Ладно. Пришлю.
Вешаю трубку. Показываю язык телефону.
– Что? Много взял? Болван эдиссоновский!
– Тррр…
– ?
– Ну, что, кончили работу? Не узнаете? Анна Павловна.
– А барыня ушедши, – пищу я неестественным голосом.
– И давно ушла?
– С утра ушла и спит. Господи! Что я плету!
– Да это кто же говорит?
А действительно, кто же это может так глупо говорить? Вот этого-то я как раз и не обдумала. Как же я могу держать в горничных такую дуру! В самом деле, кто же я такая?