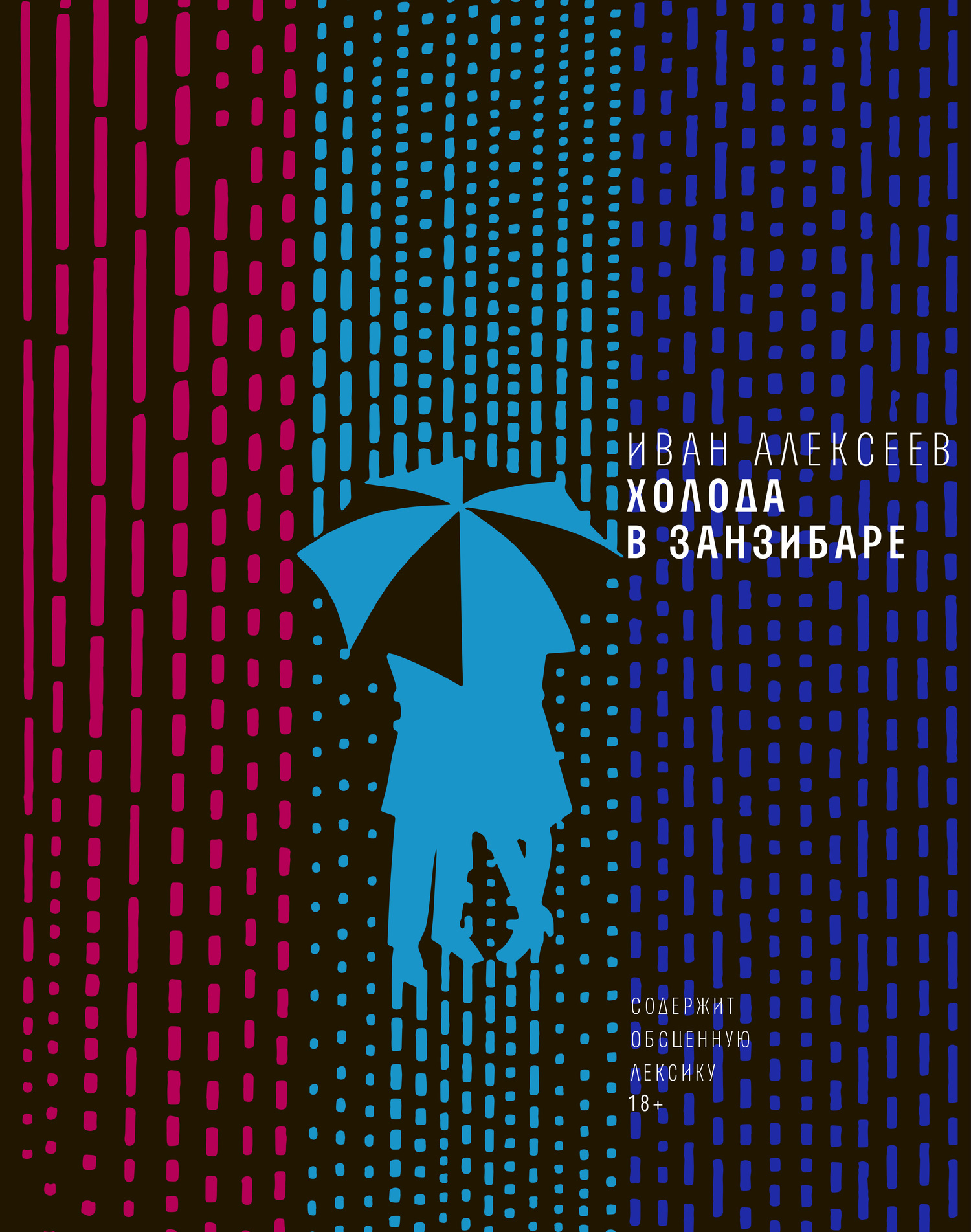за полночь (выращивал для своего лазера кристалл), Алеша с приятелем оторвали сейф от стены и, встряхнув его как следует, слили спирт через дверную щель.
Жизнь не удалась самым очевидным образом. Стихи, власть избранных над миром, Нобелевская премия – все в прошлом, ничего нет. Осталась лишь пустота, принявшая форму тела. Приятель уже крепко спал на сдвинутых стульях, поставив в изголовье тазик, когда Алеша открыл окно. Стоя на подоконнике (слоистая вата темноты мягко застелила неубранный строительный мусор), он вдруг вспомнил, что так и не решился спросить маму, почему отца похоронили не в новом, праздничном, цвета вишни со сливками костюме, а в старом, в котором он ходил на работу.
Апробация диссертации прошла на ура. С бокалом вина пришло чувство собственной значимости. Алеша взял такси и, пьяненький, поехал к маме, предварительно позвонив Лизе на Сокол, чтобы та подгребала в Зюзино. Сергей Аполлонович, к счастью, был в командировке. Расположились на кухне втроем. Алеша был в новом, пошитом к защите костюме серого цвета в диагональный рубчик; он снял галстук, пиджак, расслабленно растекся по стулу и велел двум своим любимым женщинам изо всех сил хвалить надежду отечественной оптической физики. Сам Ахманов, один из основателей нелинейной оптики, подошел к нему познакомиться и пожал руку. Статья, которая скоро выйдет в «Успехах», будет перепечатана в Британском физическом журнале. И Саша Гринберг прислал ему на Пасху поздравление из Америки.
– Ты бы, сынок, поосторожнее с ней, с Америкой, – сказала мама. – Вдруг что.
– А я никого не боюсь, – сказал Алеша и нечаянно выплеснул на новые брюки красное вино.
Брюки с него моментально стянули, и мама кинулась в ванную – застирывать.
Покачиваясь, Алеша прошел в комнату, открыл шкаф – костюм цвета вишни со сливками висел, как всегда, на своем месте, в старом, затвердевшем от времени полиэтиленовом чехле. Алеша содрал чехол и первым делом примерил пиджак – в самый раз. Теперь брюки – и снова, как на него сшитые.
– Никаких проблем, – сказал Алеша Лизе. – На защиту пойду в этом костюме.
Лиза молча пощупала обшлага рукавов, помяла пальцами полы бортов, привстав на цыпочки и, оттянув воротник, заглянула в изнанку и посмотрела на Алешу как на сумасшедшего.
Протрезвел Алеша в одну секунду.
Английская шерсть заметно потускнела; углы накладных карманов были надорваны, обшлага засалены, воротник протерт до основы и махрился, а подкладка брюк в крестовине превратилась в лохмотья.
Алеша изумленно посмотрел на Лизу, но та молчала.
Кто же его все эти годы носил? – подумал Алексей Борисович.
Помнишь тот мучительный, затягивающий кишки в узел вдох такта в пять четвертей: NO-BO-DY-E-WER-LOVED-ME-LIKE SHE DOES? Боже мой, ведь двадцать с чем-то лет прошло! Впрочем, DOES начинало уже следующий, в четыре четверти, такт.
Давным-давно жила-была на белом свете такая страна – Советский Союз, где я однажды был счастлив.
Внезапный хлопок выстрела. Удивленное, по-детски расцветшее улыбкой растерянности и непонимания лицо знаменитого боксера: и это все? Сплюснутое и скособоченное тысячью ударов, с маленькими глазками, будто вбитыми в глазницы, с белыми зигзагами шрамов над глянцевыми вмятинами в костях, оно все еще улыбалось, но сквозь улыбку, приоткрывшую кривые осколки зубов, перемежаемые черными влажными пустотами, уже хищно проступал предсмертный оскал, словно боксер пытался левой стороной рта перекусить электрический провод.
Судьба – это гармоническая идея личности, а истинная гармония всегда трагична.
Второй выстрел показался не таким громким, как первый: знаменитый боксер начал оседать, одной рукой поправляя съехавший галстук, а другой, растопырив пятерню, как-то странно подгребал, словно пытался что-то, стоявшее позади, отодвинуть.
Теперь, когда мне известно будущее, я бы хотел навсегда остаться в том дне, в той набитой, как автобус на окраине в час пик, камере.
Не мне тебе рассказывать, что такое окраина. Я жил в Черемушках, а ты, должно быть, в каком-нибудь Гольянове или Дегунине. О, эти наши бедные пролетарские окраины, получившие в наследство бесхитростные имена сгинувших деревень! – с не подросшими еще, тощими деревцами и холодными, пронизывающими ветрами на автобусных остановках; с огородами под окнами пятиэтажек, с бельем, без стеснения вывешенным на всеобщее обозрение, с помойками, выползающими из бачков на асфальт, у которых каждый день случайно встречаются два соседа в майках и тапочках на босу ногу, и спрашивается, почему бы им не поставить ведра и не перекурить; с лавочками во дворах, на которых изваяны старухи в платках – одна толстая, оплывшая, со сползшими с варикозных ног коричневыми чулками, а другая сухая, с восковым, застывшим, скорбным лицом; с неуютом вечеров, озвученных звоном стекла, пьяным бабьим визгом и пронзительными криками котов; с холодной испариной ночей, черноту которых вдруг прорезал сверк ножа, отраженный от единственного оставшегося в живых фонаря; с вонью ободранных, темных подъездов с обгоревшими почтовыми ящиками – охраняемый государством заповедник брошенных женщин и детей, завистливых взглядов, вонючих влажных ртов, из которых всегда несло портвейном и хамсой. Мне кажется, что ты оттуда же, с окраины, что и тебя оставил отец, а преждевременно состарившаяся мать покупала тебе подешевле и на вырост то, что ты никогда, под самыми страшными пытками не рискнула бы на себя надеть.
Наши матери были постоянно беременны – родив нас, они некоторое время сопротивлялись, раздвигая в абортариях бледные ноги с кривыми, в остатках педикюра пальцами, а потом все-таки подселяли к нам в комнату брата или сестру. В этой же комнате на раскладушках останавливались приезжие родственники, пропитанные сельскими запахами, соломы и скота, и угол, заклеенный вырезанными из журналов портретами Леннона, Джаггера, Планта, Болана, становился объектом их тупоголового внимания и порицания; иногда по ночам матери подкрадывались с ножницами, чтобы отстричь лелеемый хаер, а потерпев неудачу, рыдали на пустых кухнях, будто в их одиночестве была повинна длина наших волос.
Думаю, тебе не хуже моего известно, зачем блудные отцы приходят в свой бывший дом (в отличие от блудных сыновей, они никогда не возвращаются): купив наше расположение (цена-то, смешно сказать, пять, от силы пятнадцать рублей), они неделю, а то и две имели полное право не помнить о нашем существовании.
Пока он, жалкий, маленький, весь какой-то б/у, мелко покашливая, топтался, переобуваясь в прихожей (мать почему-то так и не выкинула его скособоченные, со сбитыми задниками тапки) – я, в отличие от сестры, продолжал сидеть в комнате, приготавливая перед зеркалом выражение лица, и, лишь в полной мере овладев мимическими мышцами, выходил. Я уже давно уклонялся от его шатких, на цыпочках, поцелуев, и он никак не мог подобрать для меня форму приветствия – рукопожатие, вероятно, казалось