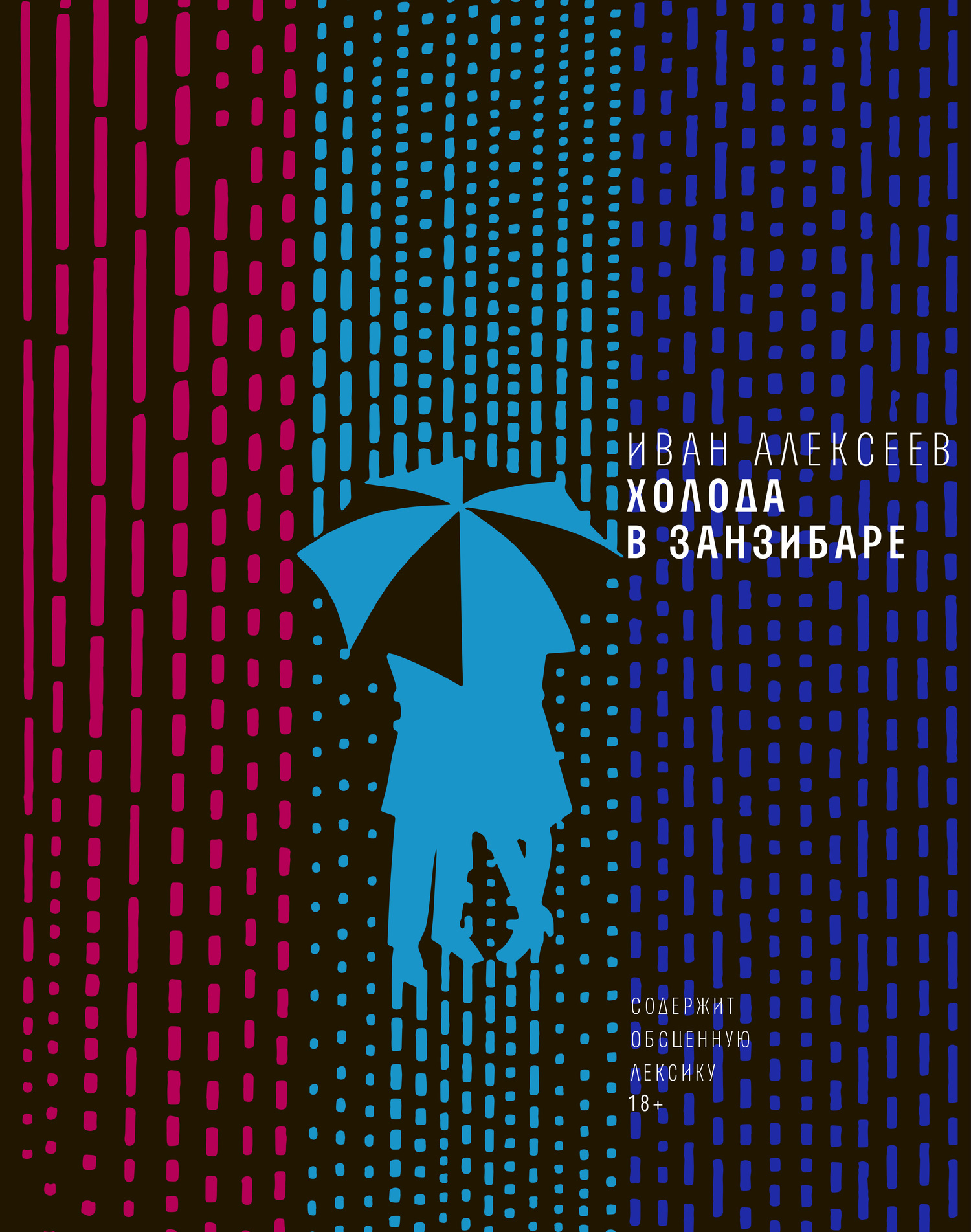на глаз с ресницами, выбросил в урну.
Теперь я знал о тебе все: я знал про поджатые губы, красные сухие глаза и отекшие от ожидания у окна варикозные ноги матери, когда ты возвращалась во втором часу ночи домой, и про внезапный ожог пощечины на располосованной уличным фонарем кухне. Я знал про духоту ночей и неутоленную муку тела, будившую фантазии, о которых некому рассказать, и про сокровенные минуты стыда и радости, и про мгновенный жар, бросавшийся в лицо при воспоминании о давешнем сне, когда мелок, глухо постукивая по исцарапанному глянцу доски, крошился в рукав учителю. Я знал, как завуч с бульдожьим лицом и мелкой завивкой, сквозь которую просвечивала розовая младенческая кожа, требовала удлинить радикально подрезанное коричневое школьное платье и запрещала появляться в школе в джинсах, и как тебя выставляли с уроков обществоведения, заставляя смыть накрашенные, как у Моники Витти, глаза, и как, выйдя в пустынный школьный коридор, где тоскливо начинало тянуть под ложечкой от хлористой вони туалетов и развешанных по стенам стендов с жирными диаграммами, ты уже не возвращалась в класс, а, стряхнув с себя окраину одним изящно-брезгливым движением плеч, ехала оттянуться в Центр, потому что Центр – это праздник воров, наркоманов, педерастов, проституток, бывших знаменитостей, хиппи и таких, как ты и я, – неприкаянных, выдумавших свою любовь из ненависти и одиночества.
Калининский кто-то обозвал вставной челюстью, а на языке тусовки он был Калинкой. Мне нравился ветреный простор мощенных плиткой тротуаров. Мне нравилось разглядывать витрины без всякой мысли что-то купить. Мне нравилось, задрав голову, сидеть на бетонном бортике тротуара – если долго смотреть на высотки, становилось заметным, как они покачиваются от ветра, как скользит и дышит в их стеклах отраженное небо. Но надо было спешить, ведь ты была совсем рядом, а табличка «МЕСТ НЕТ» могла стать непреодолимой преградой для Адама с московской окраины.
Я не имел право на ошибку – как тот пресловутый сапер. Ты могла быть только здесь, в этом полутемном зале, где смесь запахов дыма сигарет, жареного мяса и вина, сдобренная потом танцующих, создавали особую, ни на что не похожую атмосферу порока и похоти. Где юные, в прыщиках, мутноглазые, уплывшие в наркотическое далёко лица хиппи соседствовали с побитыми годами и алкоголем лицами торгашей и стукачей, где давно забытые знаменитости пропивали худосочную ренту былой славы с мальчиками с подведенными глазами, где в кабинке туалета – были б деньги – можно было получить порцию скоротечной любви, купить папиросу с гашишем или розовую промокашку с ЛСД, где нож в кармане был уместней авторучки, где бацилла триппера становилась причиной санитарных дней – где было все, что отвергала окраина. Теперь там казино: рулетка, кости, блек-джек, девушки-крупье в пионерской форме – светлый верх, темный низ – меняют фишки на доллары, а тогда за рубль девяносто можно было взять коньячный «Огни Москвы» или за два тридцать шесть «Шампань коблер» и целый вечер, медленно потягивая через соломинку, молчать, уставясь в одну точку. Ты, конечно, сразу поняла, речь – о «Метелице». Впрочем, я думаю, ты тоже называла ее «Метлой».
Я сидел у стойки на высоком табурете, обитом красной клеенкой, пытавшейся прикинуться кожей, спиной к залу и, потягивая коктейль, наблюдал из-под приспущенных век за барменом, который – что бы ты думала делал? – правильно, как и положено бармену, протирал полотенцем бокалы. Сквозь гул голосов, грохот музыки (усилители тогда были ужасны, басы дребезжали), визг танцующих, все отчетливей, все громче звучала висевшая под свитером сорокопятка: DON’T LET ME DOWN. Я не крутил головой (ненавижу манеру этих умников из английских спецшкол разглядывать с презрительной миной каждого проходящего, словно они копаются в дерьме), не пытался узнать тебя: у судьбы свои тайные знаки. Мучительный вдох в пять четвертей: NO-BO-DY-E-WER-LOVED-ME-LIKE SHE DOES – будто последние пять шагов к вершине в разреженном горном воздухе… А теперь скажи – если не это, что тогда счастье?
Драка вспыхнула в левом углу зала; натыкаясь на столики, она проломила коридор и, смяв танцы, выкатилась к эстраде. Я не обернулся, когда стихла музыка и стали слышны тяжелое пыхтенье, звон стекла, глухие удары – все и так было видно в зеркалах бара: распахнутые пиджаки, выбившиеся рубахи, съехавшие галстуки; у высокого, с внешностью иностранца, уже шла носом кровь и пачкала белую рубашку. Трое против одного – невысокого, с короткой стрижкой бобрик, в которой явно преобладала седина. Бобрик был ловок и увертлив, удары маленьких кулаков, белых и твердых, как биллиардные шары, точны и неожиданны, а его одежда оставалась в безукоризненном порядке. Я всегда болею за тех, кто в меньшинстве. Длинноногая девица в мини, в красной, перетянутой глянцевым тонким ремешком кофточке-лапше с пропотевшими подмышками уселась на соседний табурет, стрельнула у меня сигарету и, прикурив от газовой RONSON, предложила взять для нее коктейль «Коблер»; к счастью, денег у меня хватило. Она не сомневалась: когда-то этот коротышка – Петченко? Савченко? – был чемпионом в легком весе и несколько боев закончил нокаутом; выпустив колечко дыма, она подмигнула мне как своему и только теперь снизошла, чтобы убедиться в своей правоте: «иностранец» сидел на стуле, откинув голову, и промокал кровавым платком нос, другой катался по полу, держась за живот, а третий под градом ударов отступал к двери (швейцар, с интересом наблюдавший бой, услужливо посторонился), он даже не пытался защищаться – просто прикрывал лицо или живот руками, но всегда с опозданием, когда кулак боксера достигал цели.
Уже почти зарос проломленный дракой коридор, музыканты проверяли микрофон («вы-шел-ме-сяц-из-ту-ма-на-вы-нул-но-жик-из…»), когда грянул первый выстрел. Можешь ли ты забыть этот предсмертный оскал, словно боксер пытался левой стороной рта перекусить электрический провод? Мир праху твоему, отважный гладиатор, – ты был принесен на алтарь любви и, надеюсь, остался доволен своей красивой, достойной мужчины смертью.
Аллегро судьбы: милиция, пинки в спину (дубинок тогда еще не было), треск рвущейся одежды (fuck you!), высокая ступенька, блестевшая чистым вытоптанным металлом, скрежет зубьев коробки скоростей, юношеский срывающийся голос, оравший в полной темноте битловскую «Help», духота под завязку набитого фургона, боль на поворотах от невозможности вдохнуть. Короткий глоток свежего, уже с мелкой моросью воздуха, длинный темный коридор с крутым поворотом, перегороженный решеткой, – сузили количество вариантов до минимального. Воистину – узки врата…
Всего одна тусклая лампочка, ввернутая прихотью судьбы, и мы бы так и не узнали друг друга, но тьма оказалась кромешной: возмущенные выкрики, шуточки, требования не портить воздух, хихиканье и капризные восклицания девушек постепенно завяли в ней, как щебет щеглов