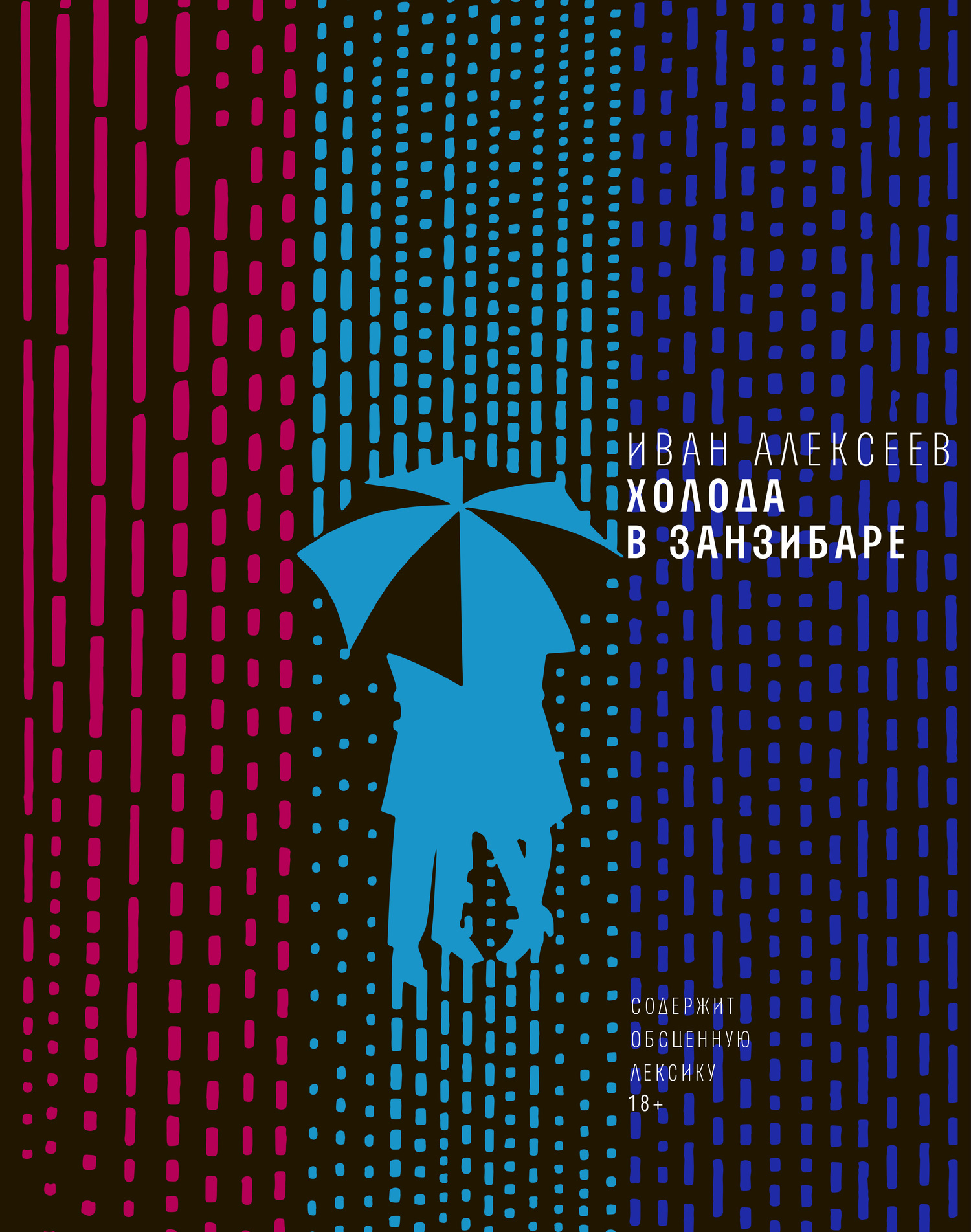в клетке, на которую набросили платок. Откуда-то издалека, пробиваясь сквозь возню полусотни тел, устраивавшихся на полу (нам повезло – места достались у стены), доносился грубый хохот легавых. Потом сделалось тихо: треск рации, искаженные помехами голоса, мерное цоканье подкованных сапог в коридоре.
Слева, совсем близко – ветерок твоего дыхания, запах волос и юного пота, но – будь ты проклята, окраина! – я не мог пошевелить и пальцем.
Помнишь ли?
Твои ноготки потаенно, по-мышиному поскреблись в чертову кожу моих «Супер Райфл», замерли, выжидая, поскреблись еще раз и, не получив ответа, сильно, с вывертом, ущипнули. Этого было довольно, чтобы рука очнулась от летаргии и шустро скользнула вверх; встреча произошла на покатой вершине колена: твой палец настороженно замер, а мой, обойдя его со всех сторон, потерся боком о прохладную выпуклость ногтя, чуть прогнулся, поднырнул, благодарно ткнулся в складку и опрокинулся навзничь, отдавая инициативу, как бы говоря – теперь ты… Встав на пуанты, твой палец некоторое время пребывал в задумчивости, потом опустился на фалангу, снова привстал и когда он, протяжно потянувшись, как бы ластясь, улегся рядом, наши ладони судорожно переплелись: здравствуй, любовь моя.
Господи, дай утешение убийцам и благослови тюрьмы!
Я считал губами твои пальцы, сбивался и все начинал сызнова.
Оказалось – у тебя есть еще одна рука. Она бесшумно выпорхнула из темноты и, усевшись ко мне на запястье, сдавила косточки с такой силой, что я тотчас же подчинился – взмах крыльев, и мы на твоем колене. Мелькнули: благородная грубость джинсовой ткани, электрический мох свитера, прелестные подробности ночного ландшафта – складки, выпуклости, провалы, бруствер воротника, ветреный простор шеи, восхитительная округлость подбородка…
Твое лицо!
Щека, лабиринт ушной раковины, ложбинка виска под влажной спутанной прядью, податливая выпуклость глаза, прикрытого ненадежным веком, жесткая щетка склеенных тушью ресниц, уступ скулы, трепет ноздри, путь по узкому хребту носа на отвесную стену лба, прогулка по брови, примятой горячей росой и снова лунная нежность щеки, шелк пушка, родинка с колючим волоском – пальцы щурились, будто щенки, впервые увидевшие солнце. Губы! Легкие судорожно схватили воздух, и стон блаженства навсегда потерялся в мятной бесконечности твоего рта…
Откуда бы в этой легавке взяться попу? Но была, была эта минута, когда битловская сорокопятка торжественно перекочевала с моей шеи на твою: любовь моя – навеки.
О, анатомия! О, тургор нежной кожи! О, подземные раскаты пульса в ямке над ключицей! О, вышедшее из берегов озеро пупка, ручьи пота, мягкость груди, скользкие ягоды сосков, нектар подмышки, чуткие клавиши позвонков! Куда улетел твой свитер? Кто оторвал все пуговицы с насквозь промокшей кофточки? Какой ураган сорвал и унес неведомо куда твой лифчик? Силой чьих пальцев взорвались тугие пояса и дружно слетели с медных, похожих на старинные монеты пуговиц?
Бог создал рай дважды: не сумев остановиться в экстазе творения, Он повторил его в Еве. И Адам выбрал этот, второй.
О кущи, открывшиеся взору моих приплюснутых резинкой пальцев (в то время трусики были куда монументальней нынешних), напоенные ароматами тропиков, зноем саван, испарениями болот Меконга! Из каких, Господи, источников Ты черпал Свои фантазии, чтобы воздвигнуть этот погруженный в глубокие недра Храм, где ночью светло от тысяч оплывающих воском свечей, а стены и своды сочатся упоительной влагой? Из какого вдохновения Твоего родились все эти тайнички, закоулочки, морщинки, карманчики, складочки, своей податливостью напоминающие пальцам сочную мякоть райского плода манго? Откуда, Господи, Ты мог знать, что это должно быть так?
Для своих сообщений судьба почему-то выбирает самые грубые, некрасивые голоса, самый убогий словарь и беспомощно путается в согласованиях. «Всем блядям к выходу!» – вот что сказала судьба.
Серый, цвета милицейской рубахи, подмалевок рассветного неба, прямоугольные, грязноватых оттенков пятна белого и желтого, подгорелый запах жилья, кухня, мать. Почему я не открыл глаза, когда ты уходила? Почему не спросил имени? И кто теперь вышьет цветок на моих джинсах?
Мать била меня по лицу, а я, облизывая распухшие, истерзанные твоей любовью губы, прикрываясь от пощечин, вдыхал твой, дотлевавший на пальцах запах и улыбался, еще не ведая, что долгие-долгие годы Адам, изгнанный из рая, в поте лица своего будет добывать свой хлеб и тосковать о Еве, что непорочно понесла и без следа растворилась в едком веществе окраины.
Былая слава бардаков Пномпеня
Слышал ли ты когда-нибудь о стране, что зовется Камбоджей? А если и слышал, то что знаешь? Думаю, что ничего! А между тем, эта крохотная, расположенная на самых дальних задворках глобуса страна много лет живет вот здесь, в сердце, и я, хотя бы через редкие газетные сообщения, непременно интересуюсь, что там и как, каков валовой продукт и подушный доход, почем рис на Нью-Йоркской бирже. Почему? То-то же. Жизнь, голубчик, это тройное сальто, а потому наливай, хорошенько закусывай и слушай.
Вот ты можешь наблевать себе на спину? Понятное дело, откуда тебе, да ты, я вижу, не веришь, что такое бывает? А если в падении с одновременной ротацией на сто восемьдесят? Так-то! Ладно, так и быть, давай по порядку! В двенадцать лет я уже курил взатяжку, познал похмелье и, как в кино, стрелял с двух рук из самодельных револьверов, которые хранил в тайнике, оборудованном под полом сарая. Когда пацан понимает, что такое смерть, согласись, это чего-то стоит. Калибр семь шестьдесят два – а какая сила! Какой восторг – внутренности судорогой сводит! А вы? В своих московских дворах? Вот выпей за моих друзей, не доживших до совершеннолетия, а потом я тебе буду рассказывать. Черт с тобой, слушай!
Я жил во втором досе, таком же как и другие, темно-зеленом, двухэтажном, с красной звездой над подъездом. Я думал, что дома там – за колючкой, в поселке, а у нас досы, и это мне казалось естественным. «Ты из какого доса?» – спрашивали мы новичка, и тот, прибывший вместе со своим вечно кочующим из гарнизона в гарнизон отцом, отвечал не задумываясь, потому что дос – он и в Африке дос. А теперь представь: сосновая аллея, тщательно выметенная солдатиками, этакий Бродвей, где чинно, под руку прогуливаются офицерские пары, где кучкуется мелюзга, обменивая патроны на противогазы, где кружком, на корточках курят выходные мужики из техсостава (войлочные тапочки на босу ногу, гражданские, надетые прямо на майки, пиджаки), а со стороны аэродрома, в соснах, – огромное красное солнце: иголки выкрашены кармином, небо бледно-розовое, из офицерского