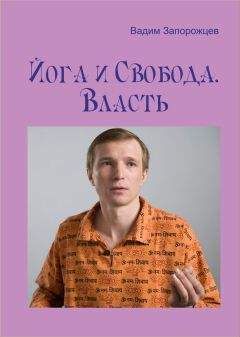Заза усадила меня в кресло и стала раздевать. Снова я подчинился. Во мне не оставалось ни одной крупинки независимости. Заза считала, конечно, что это мое состояние вызвано болезнью, жаром, усталостью, и, отчасти, это было так. Но только отчасти! В первые минуты моего пребывания в этой квартире, меня давило и оглушало обостренное сознание общего поражения.
- Жар, - сказала Заза, - стал еще сильней. Но сегодня утром придет доктор, я назначила ему еще вчера.
Она ни о чем меня не спросила, не попыталась даже узнать, нравится мне или нет; она, сколько я мог судить, была испугана. Вероятно она сомневалась: не причинит ли мне этот, так тщательно, так влюбленно ей подготовленный переезд больше вреда, чем пользы?
{150}
36.
Несколькими часами позже появился доктор, который и определил крупозное воспаление легких. Он прежде всего поспешил успокоить Заза: теперь, сказал он, медицина во всеоружии для борьбы с этим! Но я знал, что от воспаления легких умерла мать Мари когда была, вторым браком, за Аллотом, и подумал, что налицо может быть род предзнаменования, что Заза мне приготовила смертный одр... Впрочем, умереть меня не страшило. Неприятной была мысль, что в таком случае окажется обнаруженной моя настоящая личность и Мари заключит, что я ее покинул чтобы поселиться с Заза. Зоя, Заза!..
Вереница последовавших за этим дней отмечена в моей памяти образами такого внимания и таких забот, каких я никогда и ни с чьей стороны не видел. Заза вставала чуть свет, ложилась поздно. Она все чистила, вытирала пол, топила, мыла, стирала и работала в магазине. Я еще дремал когда, по утрам, давно сложив походную кровать, ею предусмотрительно купленную на время моей болезни, она уже хлопотала. И когда вечером она, до того как эту кровать бесшумно раздвинуть, раздеться и лечь, что-то штопала, пришивала, гладила, я уже спал. Ни одной минуты она не сидела сложа руки!
Днем, при каждой возможности, она поднималась из магазина, чтобы спросить, не надо ли мне чего-нибудь, узнать, какая температура, оправить подушку...
Ночью, - когда я не спал, - она тихонько приближалась ко мне, ощупывала лоб, что-нибудь ласковое шептала, спрашивала, не хочу ли я пить, если нужно давала лекарство...
Большая слабость миновала довольно скоро. Вспрыскивания новых средств и заботы Заза сделали свое дело. Но душевное мое состояние и умственное расположение были плачевны. Особенно по утрам. Я вылезал из под одеяла и, медленно ходя по комнате, начинал диалог с "отцом-хамом". Из зеркала, к которому я иной раз приближался, на меня смотрело отражение, казавшееся мне не моим: большая борода, длинные усы, провалившиеся щеки и глаза: помутневшие, сузившиеся, с набухшими веками, с какой-то отталкивающей хитрецой. Стиснув челюсти, я со злобой ложился и ждал возвращения Заза, которая приходила поить меня утренним чаем. Трогала лоб. Улыбалась. Осторожно целовала. И явно ждала, ждала всем существом моего полного выздоровления...
На смену этому первому, в общем довольно короткому периоду пришел второй, когда я почувствовал, что силы мои начинают восстанавливаться. Утром рано Заза чистила и зажигала печку и убегала в магазин. Узнав, что мне лучше, хозяйка отпускала ее менее охотно и я подолгу оставался в одиночестве.
Я не был еще достаточно силен, чтобы приступить к деятельности, к которой приступил позже, но лежать в полудремоте тоже не {151} мог, и или ходил по комнате, или стоял у полуокон, или сидел в кресле, напряженно думая. Но последовательно вытекавших одна из другой мыслей не было. Все было поисками одной, основной мысли, которая казалась совсем близкой, которую я почти настигал, и которая всегда, в крайнее мгновение, ускользала.
К завтраку, сбегав до того в лавки, возвращалась Заза. Пока мы ели, я оставался рассеянным, еле-еле отвечая на ее вопросы. Но она, по-видимому, относила мою безучастность за счет болезни и ни разу не сделала мне никакого упрека.
После ее ухода я снова думал и только вечером, чтобы отдохнуть, затевал простой разговор, выслушивая рассказы о том, как протек день: необычайно элегантная покупательница, коротенькое пререкание с хозяйкой, забытый в магазине проезжими иностранцами чемоданчик, опрокинутый собачкой горшок цикламена...
Несколько позже я попросил принести мне газету. Заза оглянула меня с недоверием, но газету купила. Развернув листы тотчас после ее ухода, я тщетно искал хотя бы малейшего намека на "исчезнувшего шоколадного фабриканта". Следствие, вероятно, длилось. Но так как нового ничего не открыли, то дело больше не интересовало ни одного журналиста, ни одну редакцию. Кроме того, со всех сторон напирали происшествия, одно другого занимательней.
Из отсутствия новостей не следовало, однако, что мне не нужно скрываться и квартира Заза, в этом смысле, была идеальным убежищем.
37.
Как-то утром, когда Заза ушла на работу, я рискнул пойти в парикмахерскую. Там мою шевелюру, усы и бороду привели в порядок, и в таком улучшенном виде, я, - неожиданно, - проник в цветочный магазин. Я был тронут радостной и гордой улыбкой, которой Заза меня встретила. Она меня представила хозяйке, и было очевидно, что на нее я произвел самое лучшее впечатление. Еще немного и она поздравила бы Заза с таким удачным выбором: какой, мол, ваш друг представительный, какой серьезный, какой элегантный! Последовало приглашение ее к нам, откушать, в ближайшее воскресенье, после чего я присутствовал при продаже двух или трех букетов. Заза умело заворачивала, приклеивала этикетки, а хозяйка, с радостной улыбкой, принимала деньги. Я был в положении не то привилегированного, не то имеющего какие-то тайные права, человека. Я вышел из магазина раздраженным, раздраженным же вошел в квартиру. Если оказывалось, что моему драматическому недоумению должно так просто придти на смену спокойное "мелко-коммерческое житие", то не утрачивало ли мое убежище всякий смысл, и сам я не должен ли был подозревать себя в пошлой фальши?
{152} Я смотрел на окна, смотрел на то, как все чисто убрано, как все блестит, и удивился тому, что у, в сущности примитивной, Заза было так много вкуса: ничего банального в устроенной ею комнате я не находил. Но легче от этого мне не становилось.
Заскрипел тогда в замочной скважине ключ, дверь отворилась и, смущенная, робкая и радостная, приблизилась ко мне моя подруга. В первый раз с тех пор как я ее знал, видел я у нее такое выражение ! Глаза мерцали, губы были сложены не то в улыбку, не то в вопрос! Она меня обняла, она ко мне прижалась, она что-то шептала. И так просто было проникнуть в сокровенную сущность ее мыслей: "Вот, наконец, после стольких усилий, после такой заботы, после такого долгого ожидания ты поправился и ты мой... Ты пошел навести красоту и сейчас же пришел мне показаться! Конечно! Я сразу все поняла!".
Я не знаю, какие скрещиваются, сплетаются, расходятся и вновь друг друга находят линии, образы, узоры и краски в том мире, куда меня увлекла Заза, и не знаю, каким побуждениям мы, в этот мир проникнув, подчиняемся. С меня довольно знать, что мы подчиняемся и что от частицы самих себя отрекаемся радостно. Знаю еще, что таких благодарно-влюбленных глаз, какими были глаза моей любовницы после первых объятий, я никогда не видел, и никогда не увижу. И еще знаю, что мне было больно: я не мог ей ответить тем же! Чтобы ее не терзать и не мучить с первого же шага, я спрятал тогда в глубину души все сомнения и все упреки себе, заменил обман самообманом. Ей ведь предстояло пострадать от моей слабости, не мне!
Вечером складная кровать исчезла, на столе и на полках появилось множество цветов. Заза постелила тонкие простыни, достала свою самую красивую, шелковую рубашку.
И превратилась тогда комната больного в брачный покой: без всякой церемонии, без оповещения, с глазу на глаз Заза выходила за меня замуж, принимая, вероятно, мое молчание за знак согласия. Она повидала мне тогда всю свою жизнь, рассказав, что у нее было не один, и не два любовника. Свою наивную нетронутость она отдала молоденькому матросу торгового флота, который, прожив с ней два месяца и обещав жениться, ушел в плаванье и не вернулся. Никогда ничего она о нем так и не узнала. Потом был сын булочника, тоже обещавший жениться, но после нескольких месяцев встреч в отелях сознавшийся, что он не сын булочника, а его подмастерье, что при этом женат, и что у него самого недавно родился сын. Потом появился коммерческий агент, уезжавший, приезжавший, снова уезжавший и снова приезжавший. Он торговал кружевами и наборами для дамского белья.
Он ее, как ей казалось, любил по-настоящему, часто делал подарки. ("Вот, - сказала она с обезоруживающей простотой, - эту рубашку я с той поры сохранила!"). Но получив назначение в другую область, он уехал и хоть и обещал ее выписать, но не только не выписал, но вообще ничего о себе не сообщил. Потом появился не то банкир, не то делец, увезший ее в роскошном поезде, но на утро, по прибытии в столицу, купивший ей обратный билет {153} третьего класса и сказавший, что он "передумал". За ним последовал владелец обувного магазина, с которым, чтобы не потерять места, ей приходилось, время от времени, ездить в рестораны и подчиняться тому, что за этим следовало. Но однажды, он ее побил и ей пришлось убежать. Тогда она поступила в цветочную лавку, вскоре после чего ее взял под "свое покровительство" парикмахер, о котором я уже знал. С ним она прожила некоторое время совместно, и от него она отделалась незадолго до нашей встречи.