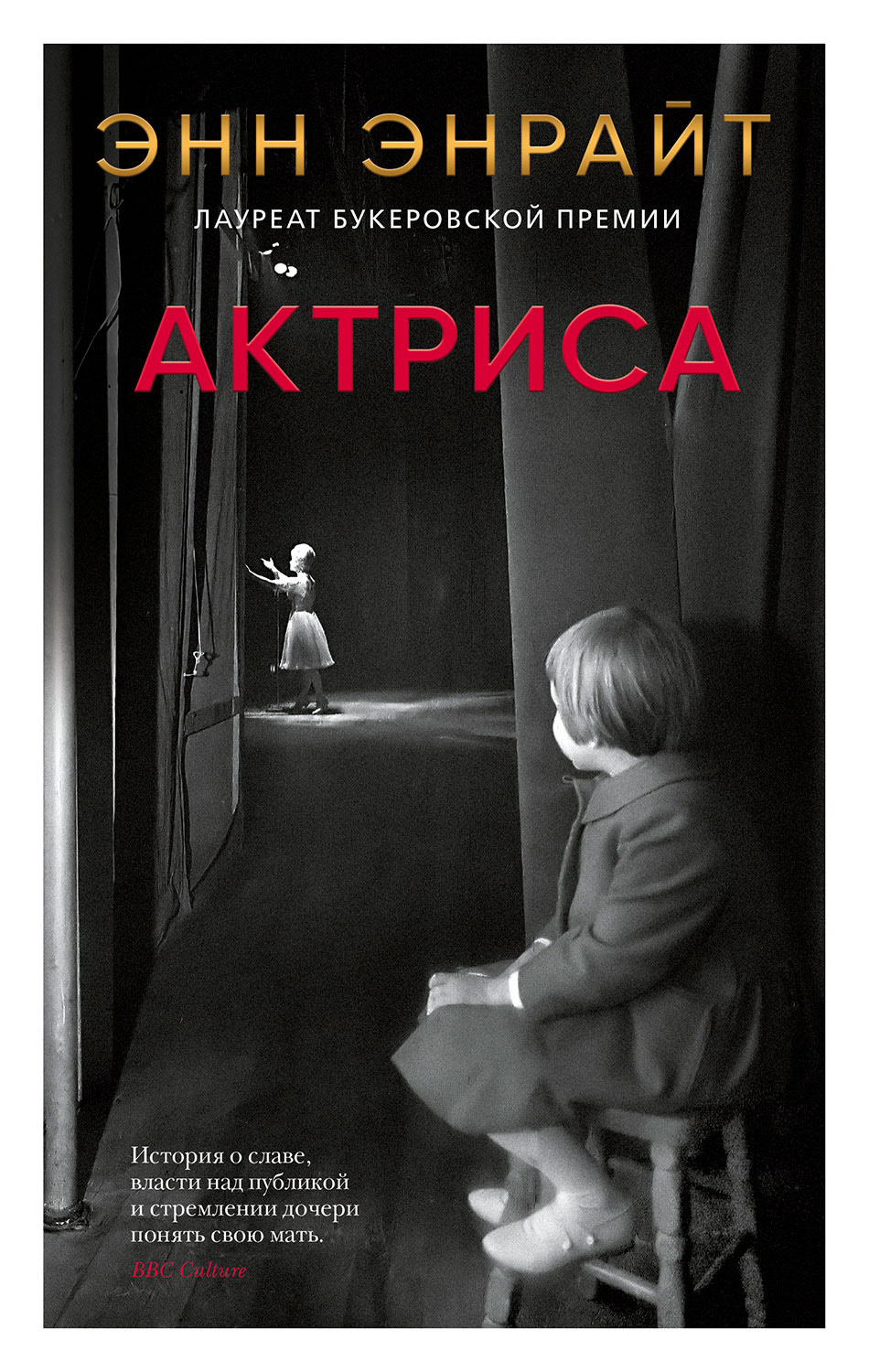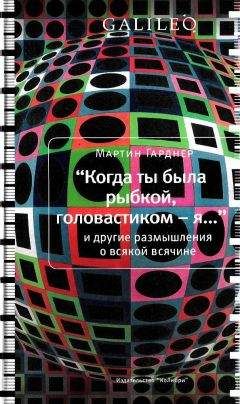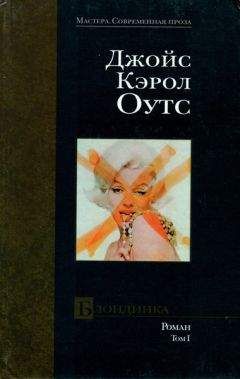этом теплом мае зацвела неожиданно рано. Поднявшись наверх, я застала мать в гостиной. Она слушала радио и встретила меня без улыбки.
– Слышала? – спросила я. – Ты уже слышала?
Она смотрела и смотрела на меня.
– Это не мы.
Три слова.
– Кто это «мы»?
С ее зелеными глазами в минуту сильного, как мне казалось, умопомрачения, что-то происходило. Они темнели, радужка мутнела и теряла прозрачность. Она будто маскировала собственный взгляд.
– «Мы»?
Да кем она себя возомнила?
Она даже не была ирландкой.
В тот вечер я утратила самообладание. В смятении ходила из комнаты в комнату. Вытащила из каморки под лестницей чемодан, и, пока поднимала его к себе, каждый мой шаг сопровождался гулким ударом о перила. Потом никак не могла сообразить, что из одежды в него положить и куда пойти. Полнейший шок. Я села на краешек кровати и уставилась перед собой.
При приеме на некоторые должности вам предлагают пройти психологический тест на несколько страниц и ответить на ряд вопросов о вашей личности («Вы стрела или лодка?»). Предпоследний вопрос звучит так: «Ваша мать – хороший человек?» Очевидно, ответ «нет» служит признаком неуравновешенности: разве мать может быть плохим человеком? Так не бывает.
Ответственных за взрывы в Дублине в тот день так и не нашли, хотя подозревали, что не обошлось без британских спецслужб. Еще в начале семидесятых ходили слухи, что у Кэтрин О’Делл есть любовник, который потом стал важным членом ИРА. Не знаю, что на это сказать. Во-первых, не думаю, что это правда. Но даже если предположить, что это правда – а это неправда, – я прекрасно понимаю, что после Кровавого воскресенья такого человека могли воспринимать как героя. В моей матери не было снобизма, зато было обостренное чувство несправедливости. Если хотите знать мое мнение, она могла переспать с любым понравившимся ей мужчиной. Но я думаю, что главным для нее оставался флирт, и в каком-то смысле это даже хуже. Моя мать флиртовала с насилием. Возможно, даже спала с насилием, но этого я не знаю и знать не желаю; по-моему, секс тут вторичен.
На самом деле мы все допускаем, что могли бы переспать с негодяем; то ли надеясь его исцелить, то ли желая самим от него заразиться, – как бы то ни было, нас всех притягивает тьма.
В тот момент это представлялось мне более чем правдоподобным.
* * *
Хотя в середине семидесятых мою мать сводило с ума все: и успехи, и провалы, и несправедливость, и – в особенности – англичане, по-настоящему ненормальной я ее тогда не считала. Разумеется, сказывалась профессиональная деформация. С ней было трудно работать. Это знали все.
Нет, конечно, работать с ней было чудесно. Она была необыкновенной. Отрабатывала по полной и вела себя невероятно любезно. Она стремилась к абсолютному совершенству. В переводе на общечеловеческий все это означало, что большую часть времени Кэтрин О’Делл пребывала в ярости.
Она была против того, чтобы показывать на сцене смерть, и высказывалась на этот счет резко и многословно. Она возражала против монологов, место которым, говорила она, на радио, и, разумеется против участия в спектакле детей. Не потому, что они переключают на себя внимание зрителя, а потому, что разрушают художественную ткань пьесы. Играют слишком реалистично. Им никто не верит, как никто не поверит, если показать на сцене настоящий труп. Исключение составлял только мальчик из «В ожидании Годо», потому что в «Годо» и не надо ничему верить. Но если уж ребенок появлялся на сцене, главное, чтобы он не пел, потому что детское пение – это кошмар.
– Ради всех святых, – говорила она, – избавьте меня от детей.
Она ненавидела даже тех детей, которые никогда не поднимались на сцену. Единственным ребенком для нее оставалась я. Ее стопроцентной удачей в самовоспроизводстве. Наверное, нам повезло. Если бы ей достался другой сценарий, где ребенок умирал, или где вспоминали о давно умершем ребенке, или где появлялся призрак ребенка, или где возвращался ребенок, отданный в чужую семью, она бы взвыла. Что тут играть? Актрисы теребят волосы и рассеянно поглаживают живот, в котором когда-то зародилась жизнь. Почему их постоянно просят хвататься за опустевшую утробу?
А уж о том, как она злилась на критиканов, особенно ирландских, ходили легенды. Они ей просто завидуют, утверждала она.
– Кто его самого так обругал? – спрашивала она. – Кто нашептал ему в молодости, что он недостаточно хорош, или вовсе не хорош, или вообще ни на что не годится?
Бывали дни, когда она ополчалась даже против зрителей. Кровопийцы, почти все, сидят там, в темноте, и высасывают из тебя все соки. Им хочется видеть, как ты страдаешь. Хочется видеть твои слезы.
А плакать она умела, и одним глазом, и обоими, в голливудской манере. Я прекрасно помню (или думаю, что помню), как смотрела в кинотеатре «Маллигана». На экране появилось двадцатифутовое лицо матери. Не щека, а белый утес, стена нежности, и на ней – единственная слеза, эта первая набухающая слезинка, подрагивающая, мерцающая в уголке глаза, готовая скатиться за край века. Ее одной хватило бы, чтобы наполнить твои протянутые к ней ладони. Огромная, как люстра, которая должна упасть.
На сцене она умела завывать, как в греческой трагедии, или засовывать в рот кулак, а потом его оттуда выдергивать. Плакать она умела красиво, но вполне реалистично, как сочувственными, так и мучительными слезами. Как правило, это были благородные слезы, хотя она умела и хлюпать носом, как служанка, особенно если ее ударяли, а делали это по-настоящему. Ее довольно часто били. Обычно наотмашь. Раз, второй, третий.
Ей отвешивали пощечины.
Трудно сказать со стороны, что она чувствовала. Мне это представлялось чем-то вроде выхода в астрал. Когда мир останавливается. В те времена женщины напрашивались, иногда в буквальном смысле слова, на побои. Они просили, чтобы им причинили боль, но не потому, что желали боли, а чтобы сильные безупречные мужчины почувствовали себя мерзавцами. В пьесе «Эмоциональный шантаж», премьера которой состоялась в Манчестере осенью 1974 года, звучит диалог на все времена. Я помогала ей разучивать слова. Мы ходили из комнаты в комнату, произнося их нараспев.
– Ударь меня, ну же, ударь, ты же знаешь, что хочешь меня ударить.
– Это ты этого хочешь.
– Ну же! Низость тебе к лицу.
– Не доводи до греха, женщина.
– Давай же!
– Не доводи до греха!
– Ударь меня. С ребенком в животе. С твоим ребенком в животе. Ну же!
– Прекрати орать на меня, женщина. Прекрати орать сию же минуту.
Манчестерский период нельзя назвать вершиной ее карьеры, но в то время она принимала