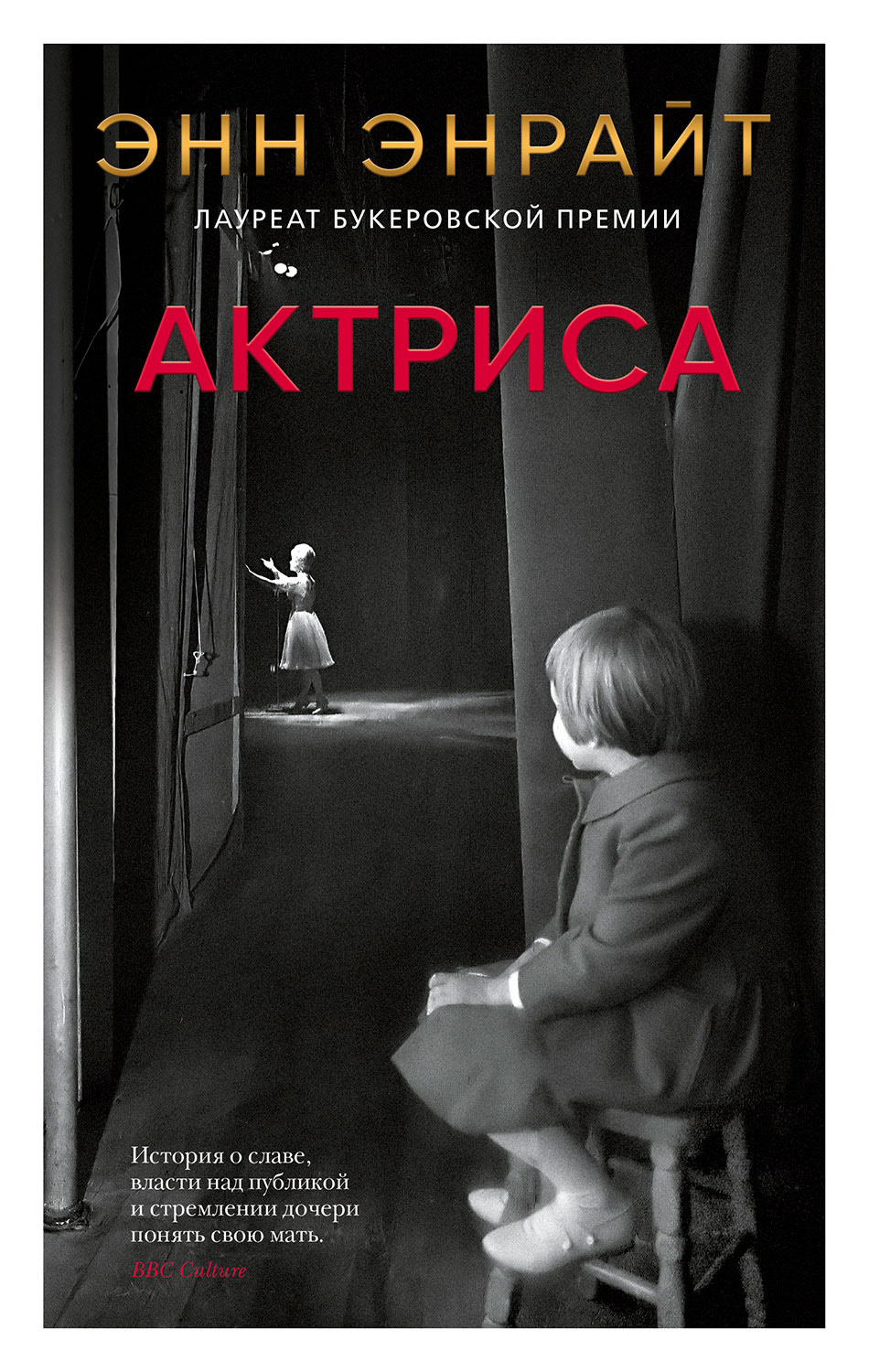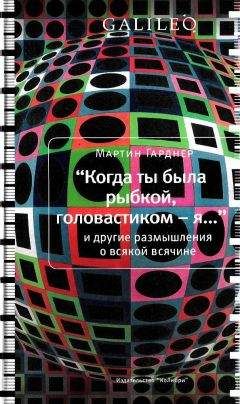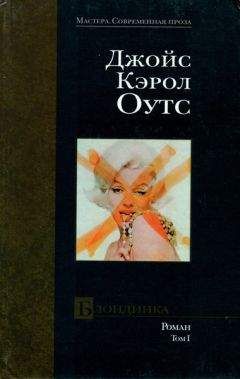подобные решения. Ей хотелось делать что-то стоящее, говорила она, под «стоящим» подразумевая политику или суровые условия.
На большие сцены ее не звали, а если звали, ее не устраивали предложения, и она переключилась на периферию. В небольших театрах ее появление вызывало панику и радость: от мысли, что ему придется дать пощечину Кэтрин О’Делл, актер из Манчестера страшно разнервничался и не столько бил ее, сколько вытирал о нее потную ладонь. «Как мокрой селедкой проехался», – вспоминала она.
Годы ее фертильности остались в прошлом, и реплика про ребенка в животе звучала не слишком убедительно. («Зрелая игра», отметил Майкл Биллингтон в газете «Гардиан»). После Манчестера она решила – или была вынуждена – сменить амплуа и в следующий раз вышла на сцену в роли старухи. Никто не знал, чего ей стоило поддерживать себя в форме: сколько часов она проводила перед трехстворчатым зеркалом в спальне, сколько раз открывалась и вновь закрывалась дверь платяного шкафа; диета из грейпфрута и вареных яиц, грязевые маски и ванны, уколы и клизмы, и работа, работа, и еще раз работа. Но в 1975 году Кэтрин О’Делл наконец сдалась. В сорок семь она из своих неубедительных двадцати перескочила сразу в шестьдесят с лишним. В промежутке играть ей было нечего. Это был болезненный переход, но она совершила его с достоинством и в августе на Эдинбургском фестивале вышла на сцену в «Мамаше Кураж».
Ни над одной ролью мать не работала с таким упорством. В вечер премьеры выяснилось, что в ее новом седом парике завелись паучки – сотни крошечных точек, уже выпустивших тоненькие нити паучьего шелка, по которым они спускались ей на лоб и лезли в глаза. Она слегка морщилась, но никто ничего не заметил, потому что моя мать была профессионалом до мозга костей. В третьем акте брехтовской пьесы она запела «Песню о Великой капитуляции», и ее сценическая дочь, бедная поруганная Катрин, рассказывала потом, как по всему залу пронеслась волна узнавания.
Ирландский критик, приехавший специально, чтобы посмотреть спектакль, написал, что постановка не вызвала у него эмоционального отклика («Брехт и эмоции? – возмущалась она. – Как можно так не понимать Брехта?»), и объявил ее провальной. Лондонская пресса высказалась благосклонно, шотландская – более обтекаемо. Но она была счастлива. Днем она гуляла по улицам Эдинбурга, ходила на утренние спектакли, знакомилась с удивительной молодежью. Волосы под жутким седым париком красила в особенно яркий рыжий цвет.
Так началось ее сотрудничество с многообещающим режиссером Денисом Мэлоуном, который ее обожал, во всяком случае, какое-то время. Вместе они поставили культовую пьесу Беккетта «Не я», выдержавшую всего несколько показов: она играла в пещере Айлви в графстве Клэр, а потом в пещерных комплексах в Югославии и на Майорке. Они собирались экранизировать «В тени долины [11]», но до съемок дело не дошло, несмотря на заинтересованность Бойда О’Нилла – того самого, в которого несколько лет спустя она выстрелит, и совсем не по-киношному, в его собственном дублинском офисе.
Кэтрин переделала пьесу Джона Миллингтона Синджа в сценарий и изменила образ героини, превратив ее из юной девушки в зрелую женщину.
– Она обычная женщина. Что плохого в том, что она обычная?
– Ничего, – поддерживала я.
Большая американская пишущая машинка из ее спальни перебралась в свободную комнату, где стоял письменный стол и висели книжные полки. Я возвращалась домой поздно вечером и заставала ее сидящей за работой. Прерывистый стрекот, каким сопровождалось ее вдохновение, мешал спать: короткие очереди сменялись долгими паузами, когда до меня доносился только громкий гул электрической машинки (она начинала гудеть, стоило включить шнур в розетку, и за это мы прозвали ее Моникой). Однажды я встала в четыре утра и пошла подложить под машинку свернутое одеяло. Как сейчас вижу эту сцену: я, с мутным со сна взглядом, и Кэтрин, растрепанная, вся в своих мыслях.
Она вздрогнула и не сразу меня узнала.
– Это всего лишь я, – сказала я, чтобы ее успокоить.
Поначалу работа над сценарием продвигалась быстро, но результат ее не устраивал; затем она сбавила темп, и дело пошло лучше. Она даже не подумала, что надо узнать, кому принадлежит авторское право, из-за чего повздорила с Бойдом. Тот, выслушав ее, только фыркнул.
– Представляешь? Фыркнул!
А потом сказал, что и читать не станет ее сценарий, пока вопрос не прояснится.
Джон Миллингтон Синдж давно умер, и я не знаю, какие проблемы могли возникнуть с авторским правом, зато знаю, что раздражительность Бойда притягивала к нему мою мать словно магнитом. Она всегда была им немного одержима, вернее, «околдована». Он владел ее мыслями и надеждами. «Я должна показать это Бойду», – часто повторяла она. Или: «Боюсь, ему не понравится. Как ты думаешь, ему понравится?» Порой она не могла до него дозвониться.
Если попытаться датировать все эти события, я сказала бы, что ее интерес к Бойду пробудился в тот день, когда он отказал ей в роли в «Моей темной Розалин». Пробы, по-видимому, проходили зимой 1970 года. В то время я ничего такого не заметила, хотя впоследствии моя мать обратила случившееся в настоящую жалобную песнь. Одним будничным зимним днем она отправилась на киностудию Ардмор («Он даже не прислал за мной машину!») пробоваться на роль, для которой была слишком стара; сцена ее, бесспорно, молодила, но, как всем известно, кинематограф беспощаден.
Она сидела на пластиковом стуле у входа в павильон и ждала своей очереди. Продюсеры встретили ее с радостью. Неистовый режиссер-американец, мощный верзила с бородой и в вязаном свитере, зажал ее ладонь своей лапищей и долго не отпускал.
– Я восхищен. Огромная честь познакомиться с вами, мисс О’Делл!
Он оказался поклонником ее таланта.
Бойд, который стоял в сторонке, лишь слегка ей кивнул. Она села перед большой камерой. В зале выключили лишний свет. По сигналу она подняла голову и идеально точно произнесла положенные реплики. Когда она закончила, в зале несколько мгновений стояла потрясенная тишина. Никто не знал, что сказать.
Потом было короткое совещание. Из-за камеры раздался голос Бойда. Он попросил ее играть менее выразительно, менее «эмоционально». Возможно, он ограничился просьбой «меньше» играть.
Она сыграла «меньше».
Он попросил «убрать все чувства», и она ради него превратилась в пустое полуденное небо. Нетронутое снежное поле. Она произносила плохо написанные реплики, но в ее устах они по-прежнему звучали песней.
Он не хотел, чтобы реплики звучали песней.
– Не играй ничего. Вообще ничего.
Она сыграла «ничего», обнажив поломанный скелет слов. Когда она договорила, Бойд О’Нилл склонился к неистовому режиссеру-американцу и вполголоса сказал:
– Теперь ты понимаешь, о чем я?
Последовала короткая пауза. Большому американцу было стыдно,