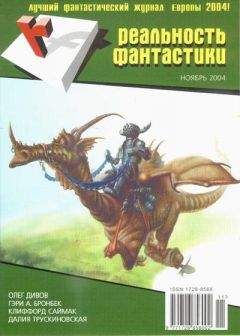Думаю, что и сам Г. А. относился ко всем этим цацкам, как он их насмешливо называл, все-таки тоже с известной долей серьезности, иначе он не был бы театральным человеком. А кроме того, за ним стоял его театр, что тоже надо иметь в виду. Злые языки (а были ведь и такие, куда денешься) говорили, что накануне своего 70-летия он нервничал по поводу получения или неполучения им звания Героя Социалистического труда, в просторечии Гертруды,- единственной, кажется, награды, которую он к тому времени "недополучил" и к которой естественно во всех других случаях относился с юмором. Но тут - нервничал... Не удивлюсь, если это даже так. В причудливом рисунке отношений с властью это могло иметь для него какое-то значение. Да и вообще...
Впрочем, отношения с властью - это отдельная тема.
О личной жизни. Я о ней мало знаю. Думаю, что и люди, общавшиеся с Г. А. ближе, чем я, знают ненамного больше. Был дом, созданный стараниями младшей сестры, доброго ангела его жизни, лучшего друга. Нателла Александровна, Додо, как мы ее называли на тбилисский манер, поставила на ноги мальчиков, сыновей Гоги, оказавшихся, так уж случилось, на ее попечении. Была опорой брату и мужу - Евгению Лебедеву. Их сын Алеша, племянник Г. А., был, как я понимаю, его слабостью.
Как он отдыхал? Ценил ли комфорт? Любил ли женщин? Знаю только, что своей Зинаиды Райх у него не было. Видел двух его жен в разные периоды жизни. В последние годы жил он один. Догадываюсь, что были в нем, как и во всяком кавказце, черты сибаритства и что ценил он достаток, которого они с сестрой были лишены в молодости. Но похоже, что ни тогда, ни теперь это не имело для него значения - может быть, в силу природного аристократизма. Однажды только видел, как загорелись его глаза по поводу сделанного приобретения: он демонстрировал мне "мерседес", привезенный им из Германии, показывал всякие кнопки, рычажки, трогал с места, оборачивался: "ну, как?" - не скрывая удовольствия. За рулем "мерседеса" и застала его смерть. Он ехал из театра - откуда ж еще? - с репетиции.
Прямая речь
(Записи разных лет).
- Почему я не в партии? Ну, знаете! Чтобы какой-нибудь осветитель учил меня, как ставить спектакли?!
- Я только что с совещания у Ильичева. Идеологическая комиссия, не шутите! Выступил Софронов. Его, как вы знаете, не ставят в Ленинграде вообще. Диверсия, групповщина. Он прямо так и заявил. Ставите, мол, своих. И - на меня. "Своих" - вы понимаете, что он имел в виду? Ну, я взял слово. Говорю: в чем дело, какие проблемы? Как только Софронов напишет хорошую пьесу, ставлю ее немедленно!
- Что еще за слухи? Нет, ни в какой Малый я не пойду. Ни в Малый, ни в ЦТСА, вообще новый театр не возьму, исключено. Это можно раз или два в жизни. Когда в 56-м я пришел в БДТ, пришлось частично менять труппу. Знаете, что это такое! Один актер уволенный, хороший человек, повесился, оставил записку. Я не спал после этого... Нет, больше - никогда!
- Мания величия, мания величия! Вы заметили, кругом мания величия. Каждый - властитель дум, никак не меньше! Я помню времена, когда собирались вместе в ВТО Таиров, Алексей Попов, Сахновский, Судаков, Хмелев, Лобанов. Абсолютно были доступные люди, держались просто - с нами, школярами; никто не ходил надутый. А сейчас посмотришь - гении! Это знак безвременья, что там ни говорите. Безвременье рождает манию величия!
- Странное дело: пока я не был депутатом и в любой момент мог быть подвергнут досмотру на таможне, я плевал на них и из каждой поездки привозил книги, все, что хотел. Вот видите, вся эта полка. Это все тогда. А теперь, когда я лицо неприкосновенное, депутат Верховного Совета и, казалось бы, ни одна собака не полезет ко мне в чемодан,- вот тут-то я и стал бояться: а вдруг?.. И перестал возить. Покупаю их там, читаю у себя в номере и - в корзину. А потому что в хорошем западном отеле забытую вещь, в том числе и книгу, могут послать тебе вслед, по домашнему адресу... Представляете картину?.. А раньше - не боялся!
- Зачем мне этот "мерседес"? Ну как вам объяснить? Вот такой анекдот. Грузин купил "запорожец". Угнали. Купил второй, запер в гараж. Опять угнали. Купил третий. Навесил два замка. Приходит наутро - нет машины. Лежит пачка денег и записка: "Вот тебе деньги, дурак, купи себе нормальную машину, не позорь нацию"!
- Еще анекдот. Слышали? Раневская упала, растянулась на улице, на Невском. "Послушайте, поднимите же меня! Такие актрисы на улице не валяются!"
Отдельная тема. Несколько лет назад в какой-то очередной телепередаче отставной генерал КГБ Олег Калугин поведал нам, что в семидесятые годы, при Андропове, когда он, Калугин, работал в Ленинграде, за некоторыми видными представителями интеллигенции было установлено наблюдение. Калугин упоминает и Товстоногова. "Мы прослушивали разговоры в его квартире",сообщает он, надо сказать, без смущения.
Вот так-так, подумал я. Значит, и наши с ним дружеские беседы... того... прослушивались! Интересно, сохранилась ли пленочка, прокрутить бы сейчас.
О чем шли разговоры?
Да все о том же.
Обязанность московского гостя в ленинградском доме - немедленно, не успел снять пальто, доложить обстановку, то есть все последние новости и сенсации. Считалось, что у нас в Москве они всегда есть, и где же им еще быть, как не в Москве. Интересовали, разумеется, политические новости и слухи, а также события в искусстве. Что там на Таганке, что у Эфроса, что там за выставка Глазунова в Манеже и к чему бы это? Что в кинематографе? "Разрешили", "запретили", "обещали"?
Комментарии следовали немедленно. И уж тут, право, было что послушать!
Хотя, честно говоря, не возьму в толк, что нового для себя могли услышать ребята Олега Калугина в Большом доме на Литейном (как называют свою Лубянку ленинградцы). Ну не про бомбу же, которую собрался подложить под Смольный знаменитый режиссер. А тогда что же? Про настроения интеллигенции? Как будто они и так не знали!
Скорее всего, я думаю, это было просто данью традиции, которую никто не мог нарушить, частью той игры, в которую играла вся страна "от" и "до": "Они делают вид, что они работают, мы делаем вид, что мы им платим".
Этот популярный анекдот, кстати, я впервые услышал от Г. А. Он любил анекдоты и рассказывал их прекрасно.
Я даже допускаю, что мальчики в Большом доме сами покатывались со смеху, слушая всю эту крамолу в его неподражаемом исполнении.
И вот еще по поводу прослушивания. Тот же Г. А. рассказал мне как-то - разумеется, рассчитывая на конфиденциальность - о подлинной скрытой причине опалы, которой подвергся в Ленинграде Сергей Юрский. Г. А. узнал об этом от самого Романова. Оказывается, помимо той очевидности, что такие, как Романов, не любят таких, как Юрский, был еще один, вполне конкретный повод. Уезжал за рубеж, в вынужденную эмиграцию, профессор Е. Г. Эткинд. Во время прощального застолья у него дома Сергей произнес какие-то слова, о смысле которых можно догадаться. На другой же день текст, записанный и расшифрованный, лежал на столе перед всесильным секретарем обкома. Юрскому без объяснений был перекрыт доступ на телевидение, отменены концерты и т. д. Тогда вот и было заявлено Товстоногову, чтобы никогда больше не поднимал "вопроса" о Юрском.
Интересно, что годы спустя, когда Юрский узнал эту историю, он ломал голову и не мог вспомнить, что же он там такого наговорил. Как выяснилось, не помнит этого и Е. Г. Эткинд... Ведомство Калугина работало в то время, как видим, вполне профессионально. Сажать не сажали. Но - слушали.
Мы же с Г. А.- хозяин, члены семьи и гости - не стеснялись в выражениях, в общем-то, отводя душу, упиваясь, как давно замечено, нашей тайной свободой,- а какой еще смысл могли иметь наши разговоры, как и все подобные интеллигентские "разговоры на кухнях"?
Хотя - как знать.
Когда в мае 1986-го грянул первый гром,- кинематографисты на своем съезде в Кремле неожиданно и спонтанно, путая карты политикам, при помощи голосования, чего еще не бывало, сменили руководство своего союза, вызволили запрещенные фильмы, нанеся непоправимый удар по цензуре, по партийной власти в искусстве,- все это, не будем забывать, зрело и копилось в наших душах, в наших домах.
Никогда не соглашусь с мнением, что свобода дарована нам сверху. Видел своими глазами тогда, в Кремлевском зале, благостные лица членов Политбюро в президиуме, весь этот отутюженный ритуал, как всегда, ничего не обещавший...
Спроси нас кто-нибудь тогда, в семидесятые, в начале восьмидесятых, надеемся ли мы хоть краем глаза увидеть чаемую нами свободу - ни о чем другом мы не мечтали - да нет же! Может быть, когда-нибудь, в каком-нибудь гипотетическом будущем, кто знает... Меня же Г. А. держал в наивных оптимистах. Так мы делили наши роли. Пессимист и оптимист. "Вы наивный человек, если думаете, что эти люди когда-нибудь отдадут власть,- говорил он мне в те вечера.- Вы видели когда-нибудь нашего Романова? Только на портретах? А Толстикова, его предшественника? Какая к черту диктатура пролетариата, это диктатура мещанства, что может быть страшнее!"