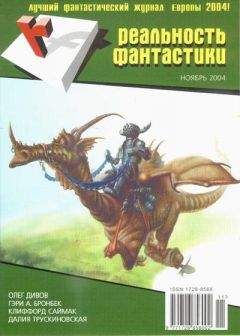Интересно все-таки, сохранились ли где-нибудь эти пленки?
Прогрессивный образ мыслей не мешал Георгию Александровичу, как уже сказано, ревниво относиться к наградам и отличиям, принимая их из рук тех же толстиковых и романовых. В этом он не одинок. Да и власти - что-что, а уж на это не скупились. В последние брежневские годы на людей искусства и науки посыпался прямо-таки золотой дождь наград. Судьба художника как бы отделялась от судьбы его произведений. Андрею Тарковскому не давали работать, но звания шли исправно - к моменту эмиграции он был уже "народным РСФСР", а фильмы не шли или шли с трудом. Примерно то же и с Климовым - тот был, кажется, "заслуженный деятель", а "Агония" лежала на полке... Власти откупались таким образом. А что же сами художники? А художники принимали поздравления. И радовались, это факт, никуда не денешься. Феномен нашей жизни, в котором тоже стоит разобраться. Слаб человек, это верно. Но помимо простых и по-своему понятных человеческих слабостей была тут, если хотите, и надежда. На какую-то защиту, на благоразумие властей, на послабления, которых всегда ждали и которые иногда случались - увы, не надолго.
Не забуду рассказ Юлия Яковлевича Райзмана, как утром однажды во дворе он встретил Михаила Ильича Ромма, они жили в одном доме на Полянке. Был 1937 год. Ромм только что обзавелся автомобилем и, сидя на корточках, орудовал заводной ручкой. "Послушайте, Юля,- сказал он,- вот какая новость. Мне дали орден Ленина! Как вы думаете, теперь меня не посадят?.."
Возвращаясь к Г. А., скажу, что в положении человека, возглавляющего театр, желание опоры, официального признания понятно вдвойне. Театр всегда, еще со времен Мольера, должен был жить в ладу с властью.. Конформизм, как мы сейчас говорим,- в его природе. С теми или другими оттенками. Он живет сегодняшним днем и потому конъюнктурен. Он живет для сегодняшних людей, у завтрашних будет свой театр.
Да, он балансировал - я имею в виду Г. А. Он вел свое дело - строил свой театр - с тонким лукавым расчетом, зная, где и как уступить и какую взять за это цену. Власть наша, как ревнивая жена, требовала постоянных уверений в любви и клятв верности, и он, как и многие из нас, знал эту слабость и играл на ней, как мог.
За пьесы Володина плачено было постановкой "Поднятой целины" к какой-то дате, и дело здесь было даже не в Шолохове - важен был в данном случае автор инсценировки - чиновник из Министерства культуры, опасный человек. Но что интересно - спектакль получился прекрасный. Так уж мы устроены: в процессе работы приходит увлечение. Сначала брак по расчету, а там, глядишь, уже и любовь.
Думали, что - навек. Что по-другому быть не может, по крайней мере при нашей жизни. И, стало быть, лучшее и максимальное, чего можно добиться, это как-то облагородить систему. И что искусство должно этому способствовать, давая зрителям глоток свободы, а заодно вразумляя начальников... Ленин? Да это же был "самый человечный человек", скромный и чуткий. Слушал "Аппасионату", а вы-то что же, товарищи дорогие?.. И впрямь, перечитывая Ленина, можно найти все аргументы даже в пользу его либерализма. "Перечитывая заново" - так и назывался спектакль с Кириллом Лавровым в роли Владимира Ильича, поставленный, как всегда, с увлечением, с искренним желанием хоть какого-то согласия с властью, "труда со всеми сообща и заодно с правопорядком", о чем еще в начале 30-х писал поэт.
Вот эти строфы Пастернака - парафраз пушкинского "В надежде славы и добра":
Столетье с лишним - не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Смотреть на вещи без боязни.
Хотеть, в отличье от хлыща
В его существованье кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком...
Дальше, после такого начала, поэт предупреждает о бесплодности этих соблазнов и иллюзий, напоминая вслед за Пушкиным, что все-таки "начало славных дел Петра мрачили мятежи и казни".
Так что же делать? Где та тонкая грань, за которой осторожный компромисс оборачивается сделкой с дьяволом? Рано или поздно наступает момент, когда грань стерта; жизнь ставит тебя перед жестким выбором. Многие испытали это на себе.
В тот приезд я застал Георгия Александровича в состоянии душевного смятения. Таким я его еще не видел. Накануне в "Правде" появилось очередное "коллективное письмо" с бранью в адрес академика Сахарова, и там, среди громких имен "представителей интеллигенции", стояло и его имя, его подпись. Разумеется, это не могло быть сделано без его согласия, хотя бы устного. Он не сказал "нет".
В те дни он не выходил из дома, не подходил к телефону, болел. Разговор наш не клеился, оба избегали деликатной темы. Наконец он заговорил "об этом" сам.
Конечно, он утешал себя тем - пытался утешить,- что волен в своих поступках лишь до тех пор, пока дело не касается судьбы театра, а здесь на карту было поставлено все,- так он убеждал, похоже, себя самого, и в этом была правда, но не вся правда. И он это чувствовал сам, как никто другой.
В таком положении был не он один. Судить этих людей вправе лишь тот, кому предлагалось подписать нечто подобное, а он отказался. Я таких не знаю. Двое моих друзей, писатель и кинорежиссер, в свое время в подобной ситуации прятались при мне в Болшеве, в Доме творчества. Г. А. негде было спрятаться.
Но и компромиссы, и балансирование не делали неуязвимыми ни театр, ни его самого. Признанный и увенчанный - лауреат всех возможных премий, депутат, профессор, да просто режиссер с мировым именем - он до самых последних лет оставался зависимым, как любой другой, от господствующих идей и руководящих лиц. Иногда ситуация взрывалась, и не потому только, что театр и его руководитель забывались и позволяли себе лишнее, хотя случалось и такое. Когда в "Горе от ума" при закрытом еще занавесе загорались слова эпиграфа из Пушкина: "Черт догадал меня родиться в России с умом и талантом" - на это отреагировали как на вызов. В "Дионе" Леонида Зорина одном из лучших спектаклей Товстоногова - прочитывались намеки, "аллюзии" (мы тогда впервые услышали это хитрое слово); их трудно было сформулировать, тем больше они раздражали. Спектакль был похоронен заживо. Висели на волоске в свое время и "Пять вечеров", и "Старшая сестра", и "История лошади" - только бурный успех у публики и критики, успевших увидеть эти спектакли, сохранил им жизнь. Критика, надо отдать ей должное,я говорю сейчас о лучшей ее части - всякий раз пыталась истолковать спектакли Товстоногова применительно к официальным нормативам, так сказать, вписать их в систему разрешенных идей, будь то "гуманизм" (но только, упаси бог, не "абстрактный", а "социалистический"), или "нравственная красота советского человека", или наоборот "разоблачение буржуазной морали", что-то из этого ряда. Сейчас невозможно без улыбки - грустной - читать все эти рассуждения. Но они помогали выжить, ничего тут не скажешь!
Так вот, придирки и запреты были, пожалуй, не только следствием так называемых идейных ошибок театра, но и особой формой существования самой власти. Она должна была время от времени показывать зубы, чтоб не зарывались, помнили, кто здесь главный. С одной стороны - звания и "цацки", с другой - неослабевающее напряжение, в котором вы должны находиться. Это тоже относится к правилам игры.
Помню вечер с Г. А. у него в доме. Ждали Е. А. Лебедева, Женю, он играл спектакль "История лошади". Г. А. поглядывал на часы, был неспокоен. На спектакле, как передала "агентура" из театра, присутствовал важный обкомовский чин, некто Андреев, кажется, секретарь по идеологии. Спектакль только начинал свою жизнь, от Андреева, видимо, что-то зависело, не знаю, что конкретно. Тревога в доме передалась и мне: что там в театре?.. И вот вернулся Лебедев, уставший, разгоряченный, как всегда после спектакля.
- Ну, что? - накинулся на него Г. А.
- Досмотрел до конца, уехал, ничего не сказал.
- Что, ни слова?
- Ни слова.
- Да,- сказал со вздохом Г. А.,- это плохой признак.
Он был не на шутку расстроен, мы успокаивали его и себя.
Где он сейчас, этот Андреев? Где они все?
В другой раз, помнится, Г. А. был всерьез озабочен статьей в "Ленинградской правде" по поводу "Трех мешков сорной пшеницы" - спектакля по Тендрякову. В подвальной статье была, хоть и вежливая по форме - времена менялись,- но резкая по существу критика спектакля. В другое время такая статья обрадовала бы режиссера и артистов, как признание того, что им удалось сказать правду о послевоенной русской деревне. Тогда это, разумеется, ставилось в упрек.
Статья была подписана неизвестным именем, что также настораживало. Это мог быть некто даже знакомый, скрывшийся за псевдонимом. Впрочем, имя автора в таких случаях не имело значения. Важно было название газеты. Одно дело, если это "Правда", другое, скажем, "Советская культура". Тут была своя твердая иерархия: "Правда" могла "поправить" "Советскую культуру" (это так и называлось - "поправить"), но никак не наоборот. Так вот, в данном случае это была "Ленинградская правда".