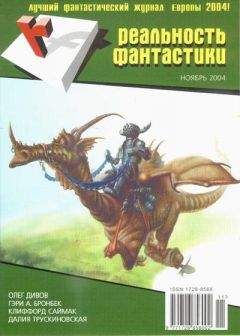Надо было видеть в тот вечер нашего Г. А. Он был вне себя. Я, как и подобает гостю, пытался его успокоить - все напрасно, он стоял на своем.
- Ну кто это прочтет! - говорил я.
- Прочтут, кому надо,- отвечал он мрачно.
- Какая-то там "Ленинградская правда", подумаешь!
На это он сказал, цедя слова, с леденящим сарказмом уже в мой адрес, как оппонента:
- Мы живем в Ленинграде, мой дорогой!
Дискуссия на этом не закончилась. Заговорили о ленинградском обкоме. Это все, конечно же, их происки - обкома и лично Романова против него, Товстоногова, и его театра.
- Они меня не любят! - заключил он со страстью.
И тут не откажу себе в удовольствии процитировать свой тогдашний ответ, как мне показалось, уместный. Я спросил:
- А вы их любите?
Личное. Году в 75-м довелось мне узнать Георгия Александровича с новой, уже, так сказать, деловой стороны. До сих пор нас связывали отношения "старинной дружбы" (храню буклет с его дарственной надписью, где именно так и сказано), тот род отношений, когда люди, бывает, не видят друг друга месяцы, а то и годы, а встречаются - будто расстались только вчера. А тут, я имею в виду 75-й год, случилось мне оказаться - к сожалению, ненадолго - автором пьесы, репетируемой в БДТ. Было это, разумеется, его инициативой. Дина Шварц, бессменный завлит Товстоногова, его правая рука на протяжении всех ленинградских лет, показала мне стенд с фотографиями в актерском фойе - здесь были все авторы пьес, поставленных в театре. "Вот и тебя мы скоро сюда поместим",- пообещала Дина Морисовна к великому моему удовольствию.
До той поры мои профессиональные занятия как бы не принимались в расчет в наших дружеских встречах и разговорах. Г. А. время от времени рассказывал мне о братьях драматургах - как один его обхаживал, пока не выяснялось, что Г. А. не будет ставить его пьесу, а другой просил "посмотреть" сына на предмет поступления на актерский курс и "сказать честно", а когда Г. А. сказал честно, тот перестал с ним здороваться, и т. д. При этих рассказах подразумевалось, что сам я как бы не принадлежу к этому цеху. Где-то что-то в кино, какие-то съемки в Ленинграде. Меня всегда удивляло, как разобщены эти два мира - театр и кинематограф; даже актеры, одни и те же, смотрятся как разные люди там и здесь. "Вот Женя у кого-то там снимается на "Мосфильме"..."
И так случилось, что Женя, Евгений Алексеевич, принес с "Ленфильма" сценарий, в котором ему предложили попробоваться на главную роль - "Дневник директора школы"; сценарий попал в руки Г. А.; тот, по свидетельству Евгения Алексеевича, читал его вслух домашним, загорелся идеей постановки на сцене, тут же придумал решение, по-моему, замечательное - и пошла работа. Когда я через какое-то время принес пьесу, сделанную по сценарию, как мы и договаривались, Г. А. ее неожиданно забраковал, заявив, что никакой пьесы не нужно, зря я трудился, ставить он будет именно сценарий, с таким расчетом и задумано оформление: площадка в центре зала, кресла зрителей вокруг, то есть мера условности скорее кинематографическая, все натурально, актеры совсем рядом. Если этот принцип даже не изобретение самого Г. А. (нечто подобное я видел в Варшаве - "Месяц в деревне" в постановке Ханушкевича, правда, было это позднее), то все равно в данном случае, применительно к моему "Дневнику", придумано было как нельзя лучше. Я еще раз убедился в этом, увидев макет, сделанный Эдуардом Кочергиным.
В эти месяцы я узнал, как мне кажется, другого Г. А. "Старинная дружба" - хорошо, но дело есть дело, и тут уж, извините, никаких сантиментов.
- Толя,- встретил он меня однажды (называл он меня по имени, я его, как старшего, Георгием Александровичем; за глаза, конечно, Гогой, как и все),- скажите, пожалуйста, что это за история, будто бы вы отдали пьесу в Театр Маяковского?
- Первый раз слышу. Маяковского? Почему вдруг? - удивился я искренне.
- Это вас надо спросить - почему! - отвечал он прокурорским тоном.
Мне оставалось только оправдываться неуклюже, как без вины виноватому:
- Не имею представления. Как она могла туда попасть?
- Не иначе - по воздуху,- продолжал он в том же духе.- Вспомните, кому вы давали экземпляр.
Я что-то пролепетал по поводу журнала "Театр", где имел неосторожность, собственно, по их же просьбе, показать рукопись.
- Ну вот,- промолвил он.- Все понятно. Так вот, учтите, если пьеса ваша где-то вдруг появится, то мы ведь можем и потерять к ней интерес.
Почему я в тот момент не ответил надлежащим образом на эту угрозу? Не сообразил, не нашелся? Это уж потом, в гостинице, наедине с самим собой, корил себя за это и придумывал остроумные варианты ответной речи.
Увы, дело кончилось гораздо раньше, чем "обещал" Г. А. В начале нового сезона, осенью, театр анонсировал предстоящие премьеры и среди них "Рассказ от первого лица" (так называлось теперь мое сочинение). Директора театра неожиданно пригласили в обком и уведомили, что сценарий "Дневник директора школы" признан идейно несостоятельным, а стало быть, и пьеса, как бы она теперь ни называлась, не может быть украшением такого театра, как БДТ.
Этого оказалось достаточно. Добрейшая Дина Морисовна так и не удостоила меня обещанной чести, что тут поделаешь.
- Вы должны нас понять,- сказал мне при встрече Г. А.- Нет больше сил с ними бороться.
Больше к этой теме мы не возвращались. Как отрезало. Однажды он спросил только, как сыграл в фильме Олег Борисов, интересуясь, видимо, артистом своего театра в первую очередь.
"Старинная дружба" продолжалась, снова становясь бескорыстной.
Иногда, особенно в последние годы, меня, если уж совсем честно, обижало его равнодушие. Обида странным образом прорезывалась уже "после всего", постфактум, когда, вернувшись от него, я ловил себя на мысли, что за весь вечер, в течение всей нашей беседы, как всегда, прекрасной, не было спрошено обо мне самом - о делах, семье, о чем еще спрашивают друг друга действительно старинные друзья. Обычно этот пробел в разговоре пыталась восполнить чуткая Нателла Александровна, Додо. Я в таких случаях старался отвечать кратко, помня знаменитый анекдот о зануде ("это тот, кто на вопрос "как живешь?" начинает подробно рассказывать"). И это было нормально. Г. А. вежливо слушал. По-видимому, то, что ему нужно было знать обо мне, он знал, и этого было ему довольно, праздных же вопросов он не любил.
Да и то сказать, я ведь не мог претендовать, уж по возрасту хотя бы, на какую-то особую с ним близость. Не знаю, впрочем, были ли у него вообще такие друзья в Ленинграде; не представляю себе человека, с которым они изливали бы друг другу душу; рискну предположить, что он в этом и не нуждался.
В моем случае, как я понял позднее, сказывалось, вероятно, и то, что область моих профессиональных трудов - кинематограф - была ему сама по себе малоинтересна. Так что же зря спрашивать?
Но вот однажды он удивил меня. Дело было в Москве, мы встретились неожиданно в Кремле, на каком-то, помню, "пленуме творческих союзов". В первую же минуту, вдруг очень оживленно, при каких-то людях, его, как всегда, окружавших, он принялся рассказывать мне о моем фильме "Успех", который он недавно, оказывается, смотрел по телевизору. Вот что было ему интересно: фильм про театр, там ставят "Чайку"! Сама картина ему нравилась, очень хвалил Филатова и Фрейндлих, что же касается "Чайки", то тут у него было особое мнение. Он был решительно не согласен с трактовкой, предложенной героем фильма - режиссером. Он спорил с ним, как с живым реальным человеком. "Чайку" надо ставить по-другому! Никакой он не новатор, этот чеховский Треплев! "Люди, львы, орлы и куропатки" - типичная ахинея. Не мог же Чехов писать это всерьез - вспомните, как он относился к декадентам. Треплев - бездарь. И Нина Заречная - никакой не талант. Они просто хорошие люди, чистые души. А талант - это Тригорин, талант Аркадина, грешники и себялюбцы. И в этом драма жизни. Вот так природа распределила. Одним - талант, другим - человеческие добродетели. Вот о чем пьеса!
И все это - в кремлевском фойе, когда уже прозвенели звонки, звали всех в зал. А он все не мог остановиться. Я редко видел его таким. Вот что значит задет его интерес. Единственный его интерес - театр.
Добавлю, что и впоследствии мы возвращались к этой теме: я спрашивал, почему он не поставит у себя "Чайку" - вот в таком неожиданном, как мне показалось, решении. Он отговаривался тем, что пьеса не расходится в его театре. "Как? - не соглашался я.- А Басилашвили? Чем не Тригорин? А та же Алиса Фрейндлих?" Он отвечал вяло. Он был уже болен. Он устал.
Глава 15
НЕГРЫ
Куропеев. Милый, меня же торопят из редакции! Может, тебя не устраивает, что статья под моим именем?.. Не понимаю: что, тебе деньги не нужны? Ему предлагают деньги, а он не берет. Прямо в руки - на! Не хочет.
Лямин. Сейчас мне деньги не нужны.
Куропеев. Во-первых, ты врешь, я знаю. А во-вторых... Тебе знакомо такое слово - надо? Так вот, Леша, надо.
А. Володин, "Назначение"