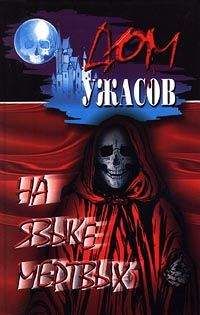вся и соль.
– А вот и он! – воскликнула Кейт, когда три отчетливых удара набалдашником трости объявили о прибытии дяди Корнелия. Она бросилась открывать дверь.
Весь день стояла тихая погода, но, войдя в дом, дядя Корнелий как будто принес с собой ветер, первый же порыв которого не просто сотряс, а захлопнул оконные створки в гостиной с низкими потолками.
Дядя Корнелий был очень высок, очень худ и очень бледен, с огромными серыми глазами, которые казались куда огромнее оттого, что он носил очки в тончайшей, как волос, стальной оправе с самыми огромными стеклами, какие только бывают. Дядя тепло поприветствовал племянников, однако даже в том, как он пожимал руки, чувствовалась серьезность, не допускавшая улыбки. Он сел в кресло у камина.
Я был столь скрупулезен в описании дяди затем, чтобы читатель мог придать его словам должный вес. Моя вера в слова так сильна, что я полагаю: все зависит от того, кому они принадлежат. Будь история дяди Корнелия Хэйвуда слово в слово рассказана дядей Тимоти Уорреном, это была бы уже совершенно другая история. Никто из слушателей не поверил бы ни единому звуку из уст круглого, краснолицего, низенького дяди Тима с его крошечными глазками; что же до дяди Корнелия – попробуйте-ка усомниться хотя бы в одном из его рассказов!
Еще одно слово о нем. Его интерес ко всему, что – как предполагают или верят – родственно ужасающей грани между этим миром и иным, был сравним лишь с отвращением, питаемым им к пошлым, лишенным воображения формам, какие в нынешние дни приняло любопытство к подобным предметам. Томясь по незримому, словно ребенок, с нетерпением ждущий поднятия театрального занавеса, он заявлял: чем принять такой мир духов, на обнаружение которого притязали, искренне или притворно, лжепровидцы девятнадцатого века – пророки оскудевшего, нищенского бессмертия, изобретенного убогой душой и мыслью столь жадной, что она не побрезговала бы и падалью – он скорее рад был бы увериться, что души в человеке не больше, чем в ямвлиховой капусте [68], и что она – всего лишь бесплотный двойник тела.
– Я так рада, что вы навестили нас, дядя! – сказала Кейт. – Почему вы не пришли к обеду? Нам было так тоскливо!
– Ну, Кейти, ты ведь знаешь, я не люблю, когда едят. Никогда не мог вынести вида коровы, терзающей траву своим длинным языком.
Дядя весьма походил на корову, когда говорил. Он открывал рот, не разжимая тесно сомкнутых губ, из-за чего щеки вваливались, а лицо ужасно вытягивалось и принимало понурый вид.
– Я нахожу прием пищи, – продолжил он, – занятием столь животным, что ему надлежит предаваться исключительно в уединении. Ты никогда не видела, как я обедаю.
– Никогда, дядя. Однако я видела, как вы пьете – призна́ю, впрочем, одну лишь воду.
– Верно, это другое дело. По словам одного очевидца, на это и бестелесные способны. Признаюсь, однако, что эта история, хотя и подтвержденная не одним свидетелем, кажется мне едва ли заслуживающей доверия. Только подумайте: стакан баварского пива был поднят в воздух без помощи видимой руки, опрокинут, и возвращен на стол опустевшим! Притом никаких брызг на полу и где-либо еще!
При этих словах сквозь огромные стекла его очков проглянул веселый лучик.
– Ах, дядя, как вы можете верить таким пустякам! – воскликнула Дженет.
– Разве я говорил, что верю? Но почему бы и нет? Во всей этой истории есть хотя бы толика воображения.
– Странная причина верить чему-либо, дядя, – заметил Гарри.
– Найдутся и похуже, Гарри. Я допускаю, что этого недостаточно, но это все же лучше тех избитых истин, на которых чаще всего зиждется вера. Я же сказал, что этот рассказ меня озадачил.
– Но как вы вообще можете снисходить до такого, дядя?
– Вреда в этом нет. История эта – со страниц старой немецкой книги. Пусть там и остается.
– Что ж, меня вы ни за что не убедите поверить в подобное, – сказала Дженет.
– А я и не просил тебя об этом, Дженет, – строго ответил ей дядя. – У меня нет ни малейшего желания убеждать тебя. Как нас угораздило направить разговор в столь непрактичное русло? Немедленно переменим тему. Как там консоли [69], Гарри?
– Ах, дядя! – сказала Кейт. – Мы так хотели услышать какую-нибудь историю, но стоило вам уже подобраться к ней, как вы тотчас же свернули на консоли!
– Я думала, намечается хотя бы история с привидениями, – вставила Дженет.
– И сделала все возможное, чтобы помешать этому, – сказал Гарри.
Девушка начала было сердито возражать, но Корнелий прервал ее:
– Ты никогда и не слышала от меня историй с привидениями, Дженет.
– Вы же только что рассказывали о пьющем привидении, дядя, – произнесла Дженет таким тоном, что Корнелий ответил:
– Ну так считай, что это и есть твоя история, а мы поговорим о чем-нибудь другом.
Дженет, по всей видимости, поняла свою грубость и проговорила так ласково, как только могла:
– Но ведь не вы придумали эту историю, дядя. Вы взяли ее из немецкой книги.
– Придумал! Придумать историю с привидениями! – повторил Корнелий. – Нет, этим я никогда не занимался.
– С подобными вещами не стоит шутить, верно? – сказала Дженет.
– Я, во всяком случае, не имею склонности шутить с ними.
– Но право же, дядя, – не уступала племянница, – вы ведь в такие вещи не верите?
– Почему же мне следует верить или не верить в них? Думается, для спасения души это несущественно.
– Но вы, полагаю, должны склоняться к тому или к другому.
– Прошу прощения, но твое предположение ошибочно. Чтобы поверить в них, мне потребовалось бы вдвое больше доказательств, чем у меня есть, а чтобы разувериться – твоя предубежденность и, с позволения сказать, невежество. И то, и другое для меня недосягаемо. Я не спешу выносить суждения. Но вы, молодые люди, конечно же, мудрее меня и лучше всех осведомлены на этот счет.
– Ах, дядя! Простите! – сказала Кейт. – Уверяю, я не хотела вас рассердить.
– Ничего, ничего, моя дорогая. Дело не в тебе.
– А знаете, – быстро продолжила Кейт, торопясь предотвратить еще какую-нибудь нелюбезность, поскольку в лице Дженет угнездилось нечто очень мрачное, – я пристрастилась к чтению о вещах такого рода.
– Прошу тебя без промедления бросить это. Ты настолько смутишь свой ум, что будешь готова поверить чему угодно – лишь бы оно было вполне нелепо. Так ты, неровен час, дойдешь и до того, что доля пошлости станет для тебя неотъемлема от веры. Я бы всем сердцем раскаивался, поверив тому, что в наши дни болтают насчет Шекспира и Бернса – такое даже о собаке или