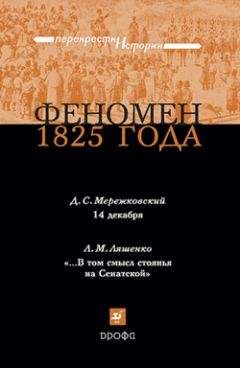- Ну, здравствуй, Машурка. - И Пушкин принялся целовать выбежавшую встречать его Машурку.
- Здравствуйте, - и такое же целование с другими.
- А, Филипьевна, друг мой, приехала? - И маленькая женщина совсем скрылась в его колоссальных объ-ятиях...
Покончив свои приветствия поцелуем с Наташенькой, Павел Сергеевич отправляется в кабинет хозяина...
- ...Ведь Свистунов болен... Я не спросила, как он себя сегодня чувствует? - Вопрос этот Наталья Дмитриевна как-то вяло адресует к Пушкину.
- Ему хуже, - отвечает коротко и мрачно Павел Сергеевич...
Нисколько не интересным показалось мне письмо, полученное во время обеда Пушкиным от председателя Вольдемарова, в котором гомеопатический пациент Вольдемаров интересовался знать у своего гомеопатического доктора Пушкина, не холера ли у него, или простое последствие употребленных им вчера грибов. Для большего уяснения этого вопроса Вольдемаров приложил рисунки, изображающие вещи, не принятые изображать. Рисунками этими завладел Анненков и желал знать у хохочущей и отвернувшейся от рисунков к Татьяне Филипьевне Наташеньки, есть ли у почтенного Вольдемарова способность рисовать с натуры? Он же, Анненков, полагал, что при большой практике из Вольдемарова выйдет замечательный художник, хотя и специальный, процедил он и возвратил бережно листок Пушкину...
Обед кончился, и Пушкин, тотчас же собравшийся домой, ссылаясь на необходимость быть около больного Свистунова, дал и мне предлог проститься.
- Поедем вместе, Горбунок тебя довезет, - остановил меня Павел Сергеевич в передней и снова обратился к провожающей его Наталье Дмитриевне: - Я говорю, что он болен, серьезно болен; вам следует его навестить.
- Мне следует его навестить, - говорит Наталья Дмитриевна, отбивая такт своим словам серебряным лорнетом... - Это Господь его наказывает (удар лорнетки по ладони). Он в последнее время совсем Бога забыл. - Ударившаяся лорнетка раскрывается. - Я молилась, горячо молилась, чтобы Господь напомнил ему о себе. Моя молитва услышана.
- Так вы не навестите его, если он и умирать будет? - спрашивает грустно Пушкин взволнованным, дрожащим голосом.
- Теперь от этой болезни он умирать не будет... Я знаю...
] ] ]
У окна за своим письменным столом сидит она (Н.Д. Фонвизина) с пером в руках. Ее решительный профиль, напоминающий красивого мужчину, сегодня ещё более поражает отсутствием женственности. Наталья Дмитриевна положила перо и с выражением не то тоски, не то боли схватилась руками за голову, склонилась к столу и оперлась на него локтями. Лицо её уже не поражало мужественной решительностью - это было страдальческое лицо женщины.
Такое необычное её выражение встретилось с не менее необычным выражением суровости и взволнованности на благодушном лице Павла Сергеевича, поднявшегося снизу.
- Здравствуйте... Что?
- Что это вы делаете?
- Пишу письма.
- Не то, не то, - заговорил он, волнуясь. - Что вы вообще делаете? Что вы со Свистуновым делаете? Вы убили его...
Он остановился. Перед ним, словно статуя, поднятая пружиной, стояла бледная Наталья Дмитриевна с выражением испуга в широко открытых глазах.
- Он умер? - прошептала она бледными губами.
- Слава Богу, нет... Но ему хуже... доктора потеряли надежду.
- А, доктора! - вздохнула она, словно после обморока, и тихо опустилась на свой табурет. - Доктора... Маловер вы, маловер! Я знаю, что я делаю. Да, знаю. Вы думаете, мне это легко, но я делаю, делаю для спасения души его. Для вас страдание тела выше, больше значит, чем смерть его бессмертной души.
Павел Сергеевич вздыхал, на его глазах были слезы. Тяжело было его мягкой душе делать кому-либо укоры, тем более своему нежно любимому другу, но он превозмог себя, и между Пушкиным и Натальей Дмитриевной завязался спор: укоры в жестокости к ближнему встретились с укорами в губительной поблажке телу в ущерб душе.
Минут через пятнадцать ступеньки лестницы, ведущей из мезонина вниз, грустно скрипели под шагами грустного Пушкина, идущего в кабинет Михаила Александровича, с которым он, перебросившись несколькими фразами и отказавшись от чаю, простился и пошел к Горбунку, удивленному таким коротким визитом и недовольному, что его оторвали от такого душистого сена, которого он, однако, захватил изрядный клок...
...Калистов рылся в своем древлехранилище, со дна которого достал... тетрадь, взвеселившую меня с первой же страницы: вся она была зарисована... знакомыми лицами: ректор с тростью, инспектор с своим длинным носом... Архип Иванович в шапке с длинной кисточкой - все это было и очень похоже, и очень смешно.
- Неужели это ты рисовал?
- Я, а что?
- Да как славно!
- Ну, много ты смыслишь... Вот мне надо знать, как учатся рисовать...
- Ты дай мне тетрадь, я Пушкину покажу, он сам рисует и расскажет, как надо...
- Нет, не дам, смеяться будут надо мной.
- Пушкин-то будет смеяться? Он никогда ни над кем не смеется...
Я отправился домой, мечтая о том, как заявлюсь к Пушкину и как серьезно буду толковать с ним в интересах одного инкогнито, желающего посвятить себя артистическому поприщу...
В раннее утро вступил на подъезд свистуновского дома, в котором Павел Сергеевич Пушкин занимал маленькую комнатку. В передней я застал пушкинских посетителей: на полу, на окне и на рундуке сидели крестьяне и крестьянки. Это были пациенты Павла Сергеевича, имевшие большую веру в его маленькие медикаменты. Сидели они в ожидании своей очереди рассказать ему про свои лихие болести. Миновав этих страждущих, я вошел в кабинет врачующего и застал хозяина толкующим с пациенткой, обвязанной тряпками. Толковал он ей, как, в чем и когда она должна принимать предлагаемые ей миниатюрные крупинки. Больная женщина, казалось, застыла: полуоткрытый рот и несмигивающие глаза ясно говорили о том внимании, с которым она глотала каждое слово гомеопата.
Уселся я на кровать Пушкина, и в то время, как он толковал со своими пациентами, входящими к нему один после другого, я занялся рассматриванием окружающего. Много труда потребовалось бы от человека, пожелавшего привести эту комнату в порядок, классифицировать разнообразную её начинку: здесь палитра с засохшими красками изолировала сапог от коллекции пил, долот и стамесок, служивших вместо пресс-папье для большой книги строительных чертежей, покоящейся на старой жилетке. И таких вещественных пластов в этой гомеопатической комнатке было очень много, и все они не походили друг на друга.
- Ну что, мой оратор, у тебя что болит? - проводив последнего пациента и садясь около меня, обращается ко мне Пушкин с такою готовностью снабдить меня крупинками, что мне решительно сделалось совестно за свою натуру, не требующую никакого лечения. Я поспешил пробормотать, что я о другом.
У меня была заготовлена речь для изъяснения моего прихода, но она вся испарилась, так как составлена она была при желании говорить о предмете так, как говорят взрослые со взрослыми, при взгляде же на закурившего сигару Пушкина я почувствовал, что меня слушает менее взрослый, чем многие из моих сослуживцев по ораторскому искусству, и начал я, как умел, излагать о цели моего прихода.
- Ты бы мне его рисунки показал или ещё бы лучше сделал, если бы его самого привел ко мне.
- Я просил их у него... да он не дает, говорит, смеяться будете.
- Отчего же ты не объяснил ему, что это вовсе не худое дело и смеяться над этим нечего. Да как его фамилия?
Я взглянул в лицо Павла Сергеевича, и мысль сохранить инкогнито моего друга показалась мне немыслимою. Я сообщил, что зовут его Василием Калистовым.
- Это твой приятель-то, шалунишка-то! Ты просто возьми его и притащи ко мне, а рисунки-то возьми сегодня же и принеси к Фонвизиным, это и их немного развлечет. Мы там посмотрим, оригиналов ему выберем. Копировать надо с хороших оригиналов, вот и научится... Ну а у тебя, мой оратор, охоты к рисованию нет?
- Нет.
- К чему же у тебя особенная охота?
Я оглядывал весь его технический отдел в тщетной надежде почувствовать пристрастие к какому-нибудь инструменту.
- Не хочешь ли быть доктором? Тут кстати бы и латинский язык пригодился. - Он улыбнулся.
Я восстал против медицинской карьеры, сопряженной с латинским языком.
- Но ведь, однако, он у тебя ничего, как-нибудь идет, латинский-то язык?
- Как-то-нибудь он идет.
Звон в церквах к обедне положил конец нашей беседе, и мы дружески расстались...
В антрактах между лекциями я дозубривал какой-то урок, как ко мне подошел Калистов.
- Знаешь, что у меня Пушкин был?
- Да, он хотел заехать.
- Ну, я их считал какими-то особенными людьми. Он как все, или, впрочем, и тем он не похож на всех. Знаешь ли, я ведь с ним разговаривал.
- А с другими ты не разговариваешь?
- Ах ты, лукошко! Да пойми, я с ним говорил, как вот с тобой говорю.
- И лукошком его назвал?
- Ну. - Калистов встал и пошел на свое место, но с половины дороги воротился и снова сел на свою скамью. - Нет, вот в чем штукенция-то. Он велел мне завтра к нему зайти, хотел познакомить с живописцем Барашковым, у которого я буду учиться рисовать. Так пойдем вместе, одному как-то... с тобой лучше.