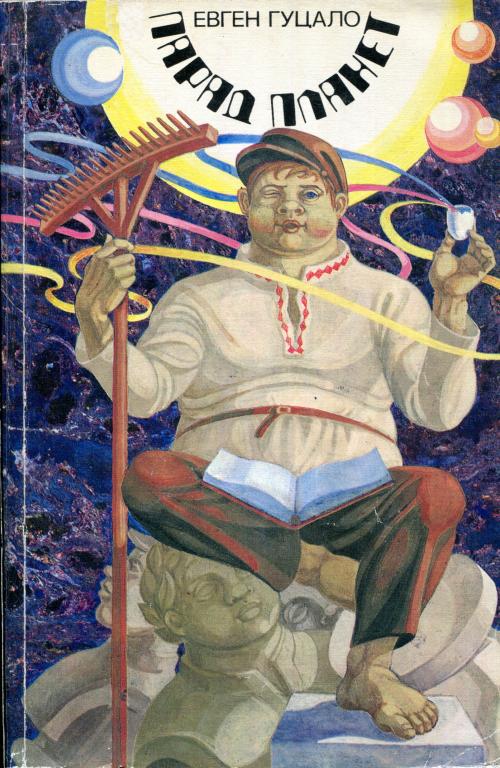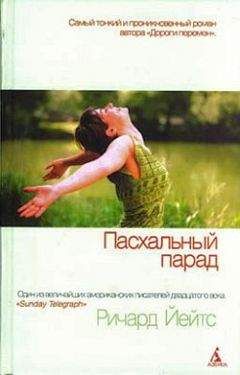ж, все ты знаешь, как едят, да тебя не угостят, — пожал ему руку на прощание Михайло Григорьевич.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
в которой не без некоторой печали и сожаления рассказывается о замечтавшемся Хоме
«Вот ведь как бывает! — сокрушенно размышлял грибок-боровичок после очередного посещения кабинета председателя колхоза. — Я тучу с градом обежал, а злых рук Ионы Исаевича Короглы не избежал. Такому врагу все отдай, лишь бы от греха подальше, такого недруга хлебом да солью стоило бы казнить, но, вижу, Иона Исаевич такой недруг, что, сколько ты его ни корми, все одно недругом останется. И баран боднет, если его зацепишь, а тут — такой академик! Сидит в Киеве, а в Яблоневке все видит, должно быть, он из тех премудриков, что имеют чем думать, да им просто не о чем думать, или же и есть о чем, да нечем! Горе мне, отлученному от ударного труда! Кажется, и омолодился по-человечески, и жизни себе прибавил после этого макробиотического дзена, но кому теперь молодость моя нужна, раз нет мне доступа в коровник? Горе мне, народному умельцу из Яблоневки, но ведь и председателя колхоза можно понять, он должен реагировать и принимать меры, раз пишет писака, что не разберет собака, обязан воспитывать и перевоспитывать, это как же тяжело ему, сердечному, ох тяжело! Видно, шутить с ним негоже, а что, если и вправду из колхоза выгонят? Другие колхозники как колхозники, только я словно горбатый возле стены, и смех и грех!»
От страха, что его могут выгнать из колхоза, стихийный макробиотик Хома чувствовал себя так, будто за шиворот ему снегу сыпанули, а волосы шапку приподняли. Омоложенный и обеспеченный долголетием, он не был рад ни омоложению, ни долголетию. Слонялся без дела по хате и по двору, будто искал добра, а беда сама пришла, будто и не зазывал беду к себе, а она сама нашла.
«А может, помечтать?!» — вдруг озарила грибка-боровичка счастливая мысль. Хома отлученный улегся за хатой в тени груши. Лежит он на траве, вокруг птицы щебечут, лопухи пахнут, небо над головой синеет васильково, а грибок-боровичок приказывает себе мечтать…
Может, помечтать, чтобы вон та ворона, которая смолоду в облаках не летала, вдруг под старость взлетела высоко в небо?.. Вот если б наших белых яблоневских курочек да подкармливать красным перцем изо дня в день, то они бы сделались розовыми и не было бы таких розовых курочек ни в Сухолужье, ни в Чудовах, ни в Большом Вербном…
Вот такие мечты шевелились в голове грибка-боровичка, но с этими мечтами чувствовал себя Хома как будто из-за угла мешком прибитым — потому что сознательно гнал от себя самые сокровенные мысли. Какие? Да мечтал он все о коровнике и своих вилах!
Грибок-боровичок и ведать не ведал, что так трудно на белом свете мечтать. Ведь какой этот белый свет удобный для мечтаний, эге ж, совсем как та свита, что на Савку шита, а все мечты сворачивают на одно — на коровник.
И побежали по лицу Хомы отлученного слезы от великого отчаяния, хоть и пытался он взять себя в руки. Слезы редкие — да едкие, и сельский стихийный макробиотик киснул, как квашня. Кто-нибудь другой, может, не печалился бы и не ходил как тень, какого черта печалиться, все это перетолчется да перемелется, но только не Хома отлученный, который чувствовал себя так, будто печаль да горе его с ног свалили, а беда землею привалила.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
в которой рассказывается не только про то, как Мартоха массировала Хому, а и про то, как грибок-боровичок занялся лечебным сорокадневным голоданием и благословенная Яблоневка по его примеру тоже голодала, очищалась от шлаков, питалась воздухом, оздоравливалась и крепла
«Ладно, — думалось Хоме под грушею, — раз академик Иона Исаевич Короглы повадился по мою душу, раз председатель колхоза Дым дует в одну дудку с академиком, то пора мне предать анафеме и восточную философию, и макробиотический дзен. Отныне я не только не буду употреблять макробиотических харчей, а и вообще перестану есть. Дудки тебе, Хома, хватит холодец сосать».
Так решил Хома отлученный, которого до сих пор никто за еду не ругал, а за работу и подавно в глаза никто никогда не плевал.
— Хомонько, это ты или не ты? — вскрикнула Мартоха за обедом, видя, что Хома за стол не садится, за ложку не берется и к еде не притрагивается. — Или ты согрешил, что даже крошки хлеба себе не накрошил?
— Угомонись, Мартоха, я шмеля не поймал, так что не надо тебе надвое ворожить: то ли помру, то ли живым останусь, — успокаивал грибок-боровичок свою родную жену. — Прежде мы как действовали? Прежде мы ели, чтобы жить, и жили, чтобы есть. Даже тот макробиотический дзен был нам нужен, чтоб не ушли до срока наши лета со света. А теперь, Мартоха, я собираюсь голодать, а там, глядишь, и не заболею ни одной из тех болезней, которых у меня нет. При макробиотическом дзене я питался, а теперь не буду питаться совсем, и результат будет если не тот же самый, то лучший. Гарантия от всех болячек! Никаких затрат на лекарства и операции, никаких инъекций, никаких эскулапов! Омоложусь еще больше, и мой природный магнетизм будет всегда в норме!
Мартоха смотрела на своего Хому как на великомученика. Конечно, если бы его не отлучали от работы, грибок-боровичок не превращался бы ни в великомученика, ни в макробиотика, оставался бы себе и дальше старшим куда пошлют.
Значит, перестал грибок-боровичок есть, только ходит да на еду поглядывает. В кладовке любуется на сало и колбасы, в саду — на яблоки и груши, в хате — на хлеб и молоко. И воды выпьет, чтоб только горло смочить. И — дышит! Увидели бы вы, как Хома дышал! Дышал так, будто перед смертью боялся не надышаться, но не через рот, а через нос — вот в чем закавыка. Сначала хитрый грибок-боровичок наполнял воздухом нижнюю часть своих легких, потом среднюю часть, потом уже самый верх. Задерживал воздух в легких, словно тот дурень, что дорвался до мыла, а потом выдыхал, будто нечистого духа изгонял. А