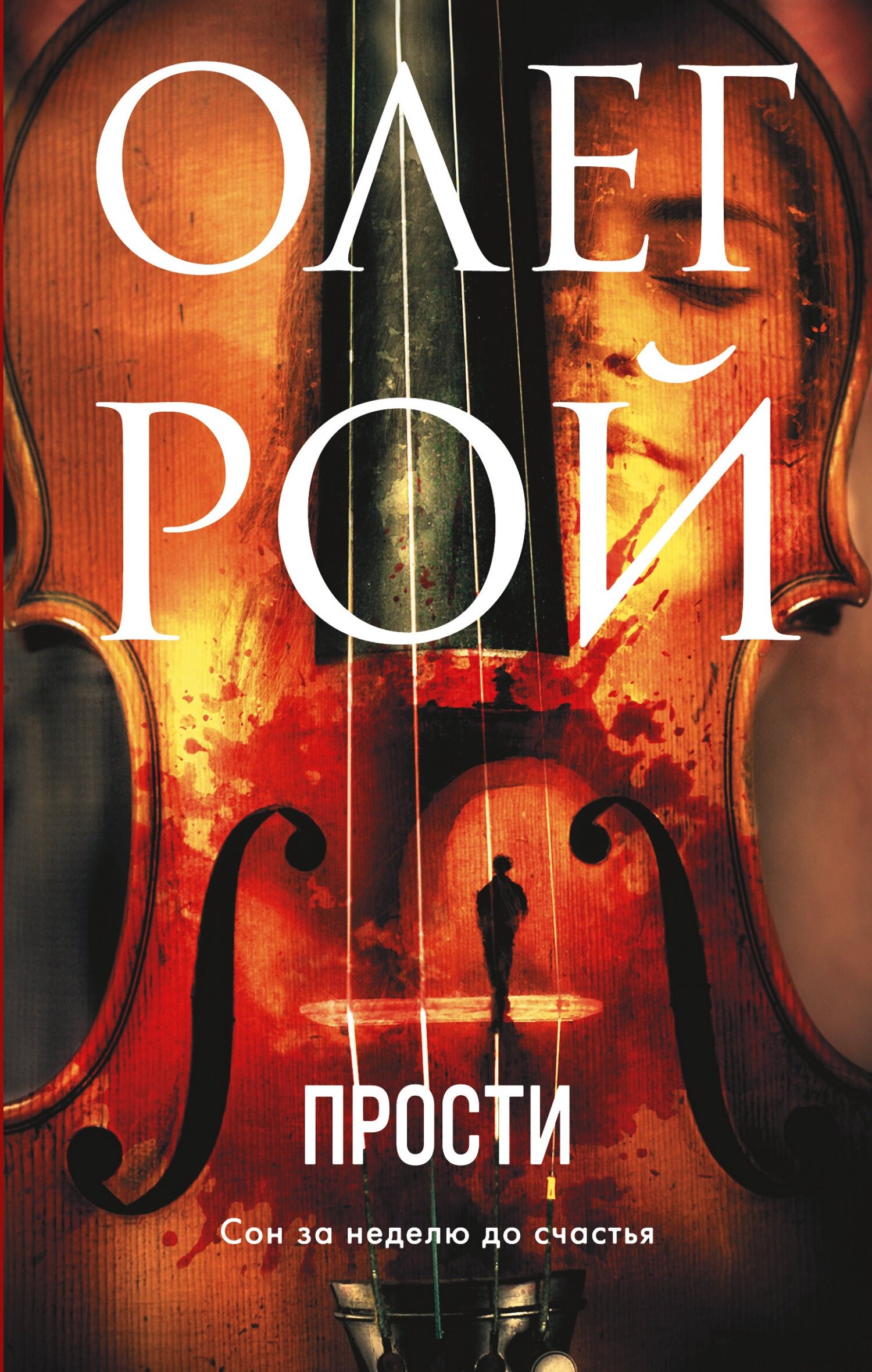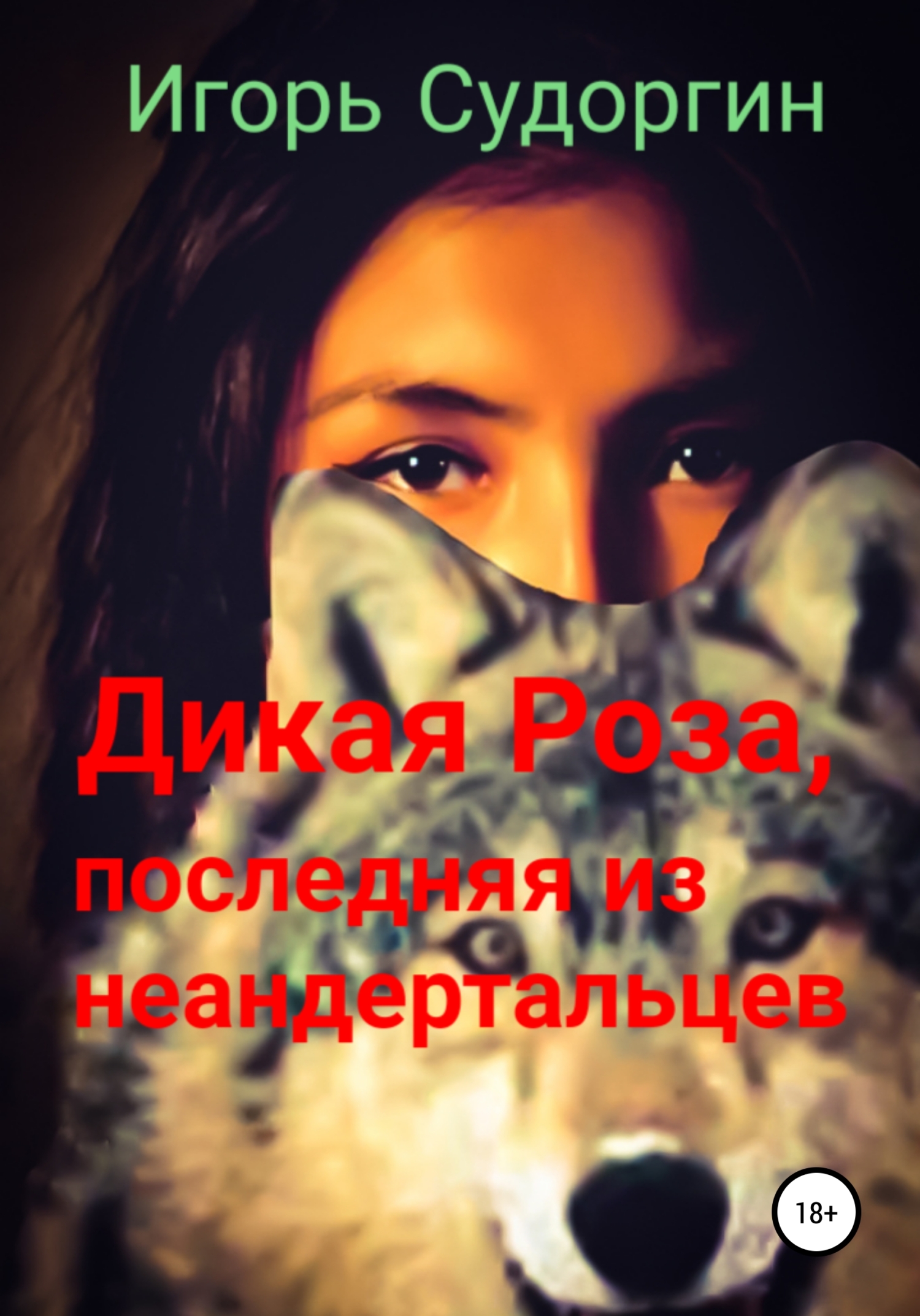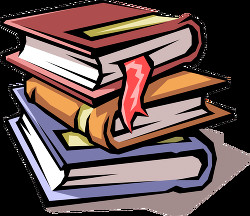Герман стоит на коленях возле ее гроба:
– Прости! Прости, Лесенька! Прости, родная!
В гробу было бы лучше. Спокойнее.
Она вздрогнула. Прокручивая раз за разом ту сцену в больничной палате, она не замечала главного.
Прости! Даже падая перед ней на колени после своих «взрывов», он повторял «извини». А тут – прости.
Вроде и невелика разница, ан нет. Пропасть. Бездна. И что с этой пропастью делать? Ведь если он просит прощения, значит, ей нужно как-то… отреагировать? Как-то… простить?
Ведь он… понял? Хочет начать все сначала?
Ледяная игла, застрявшая, казалось, в правом запястье, вытянулась, выросла, кольнула в самое сердце.
Сначала?
Здесь он никак не мог бы появиться. Даже бабушка его не впустила бы. Про Карину и говорить нечего. А она, Олеся… ждала? Чтобы ворвался в облезлую ее комнату, упал на колени – как тогда, в больнице, – покрыл поцелуями несчастную правую руку…
Почему он принес в больницу лилии? Белые, кладбищенские.
Почему сказал «прости»? Неужели все еще возможно? Нужно лишь сделать над собой усилие, улыбнуться, открыть глаза, погладить его по склоненной голове…
Но почему?!
Почему это она должна что-то делать? Почему усилия над собой предписываются ей? Потому что повинную голову меч не сечет? Я же попросил прощения! Как индульгенцию купил. Я же встал на колени, попросил прощения, и теперь ты обязана проявить милосердие. Так?
Милосердие?
Разве это чертово «прости» накладывает какие-то обязательства? Получается, что так. Но вот вопрос – на кого? Не на того, кто просит прощения – он ведь уже склонился, выразил сожаления, чего вы от него еще хотите? Нет. Тот, кому сказали «прости», теперь, выходит, обязан? Обязан проявить милосердие?
Почему милосердие, если тот, кто просит прощения, искренен? Если он действительно жалеет, ну или раскаивается, ну или как это еще назвать? Если «прости» идет из сердца, оно не для того, перед кем ты на коленях стоишь, оно для тебя самого, разве нет? Тебе стыдно – за себя, за свои слова и действия! – и кричишь! Небесам, мирозданию – неважно, слышат ли тебя. Ты просто не можешь этот крик внутри удержать, тебе необходимо его выплеснуть. Очиститься.
И при чем тут милосердие? Как будто «прости» требует от «раскаявшегося» неведомо каких усилий. Которые как бы сами по себе уже наказание. Ну да. Он ведь снимает камень со своей души? Ага, точно. И вручает его тому, кого обидел: на, держи, сделай с этим что-нибудь.
Теперь это твоя забота.
А ведь так и есть.
По крайней мере у нее с Германом так оно и было. Правда, он говорил «извини». Извини. Сними с меня вину, возьми ее себе. Хотя на коленях стоял – вроде как раскаивался? Взрывной характер, что тут поделаешь? Разве можно не простить? Чтобы, получив свою индульгенцию, зверь опять бросился? Ну да. Индульгенция – разрешение. Взрывной характер, внутри как будто зверь просыпается, что я могу поделать! Прости! Я же люблю тебя!
Я не удержался, и теперь у меня на сердце камень? Да есть ли у тебя оно, сердце-то? Ай, неважно. Важно – передать камень обиженному, пусть теперь это его проблема будет.
Зверь, наверное, тоже любит своих жертв. Как иначе, на кого он бросаться-то станет?
Нет. Нет, Герман, не приходи. Пожалуйста. Я… не могу. Мне нечем защититься от твоего зверя. Лилии – да, лилии – это правильно. Я умерла, ты принес цветы. И все. Потому что если я еще раз окажусь рядом с тобой – сердце зайдется загнанным зайчонком. Зайдется, завизжит пронзительно и безумно – и остановится.
Не приходи. Пожалуйста.
– Почему? – прохрипела Олеся. – Почему он… такой?
– Ну хоть не спрашиваешь, чем ты его спровоцировала, и на том спасибо. А то я уж испугалась, что опять он весь невиноватый. Такой… Да кто ж знает почему. Никакие «почему» не оправдывают скотства. Да и какая разница! Всякие там детские травмы у многих случаются, однако монстрами становятся единицы.
Олеся сжалась, свернулась в комочек – вдруг испугалась, что «монстр» появится сейчас на пороге, и она… что она может сделать?
– Не скули, хватит, – все так же холодно одернула ее Карина. – Ты решила, что жизнь твоя кончена, а тут такой удобный жупел, лежишь и боишься дернуться. Он-то подонок, но дело ведь не в нем. Ты могла, к примеру, под машину попасть. Или просто в гололед расшибиться. С тем же результатом. Думаешь, мало перспективных юных спортсменов или там балерин ноги ломает? Ходить можно, танцевать уже нет. И что, вешаться?
– Надо было?
– К счастью, этот этап мы благополучно пролежали. Значит, что? Живая и более-менее здоровая. Ну, с профессиональной точки зрения – да, не фонтан, но не калека. Не в инвалидном кресле. И даже зубы целы. Знаешь, сколько сейчас стоит новые зубы сделать? Однако есть-пить тебе нужно. И даже если мы наизнанку вывернемся, компенсацию мы с Германа не стрясем, кто мы против его адвокатов?
Олеся замычала, замотала головой. Но Карина поняла:
– Вот именно. Адвокаты адвокатами, но ты ж не сможешь, как это называется, поддерживать иск. Что возвращает нас к первому вопросу: долго собираешься у бабушки на шее сидеть? Не стыдно?
– Но…
– На стройку я тебя не посылаю, из тебя даже маляр не выйдет. Ну и рука, опять же, не совсем чтоб в порядке. Значит, ищем вакансии, так сказать, офисного характера, – Карина принялась сноровисто открывать какие-то непонятные страницы на экране смартфона.
– Секретаршей? – опасливо спросила Олеся, с ужасом представляя себе некую приемную с тяжелыми дверями и пестрыми рядами толстых папок на стеллаже.
– Не, там надо улыбаться и… не годится, в общем. В условные менеджеры? С твоей любовью к цифрам? Тоже не наше. В продавцы-консультанты? Ты от первого же покупателя под стеллаж спрячешься. Или как минимум что-нибудь перепутаешь. Мозги у тебя не под торговлю заточены. Это не плохо и не хорошо, это данность. Можно, к примеру, в архив какой-нибудь… Но вот, глянь, вакансия в детской библиотеке. Платят, конечно, не так чтоб щедро, но тебе бы начать. Зато и придираться меньше станут, твоего почти высшего образования, да еще почти по профилю – тут культура и там культура, – думаю, достаточно будет.
Хоть это и странно, но решающим аргументом для Олеси стало то, что выходным днем в библиотеке был вторник.
Вторник – ничуть не лучше пресловутого понедельника, подумал Александр, открывая глаза. Вроде и не пил вчера, а голова…
– Александр! – Голос Великого Сыщика Белова в трубке звучал раздражающе