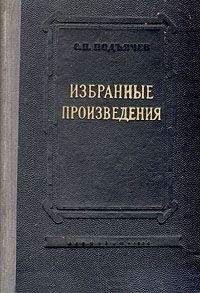Сама Хима сидела, вытянувшись, похожая на цаплю, когда та стоит на одной ноге и, почуяв, но не видя еще крадущегося к ней по кочкам охотника, думает: улететь или погодить…
Соплюн то и дело обращался к ней с вопросами, на которые она делала «умильную» улыбку, торопливо отвечала, точно провинившаяся школьница. Вопросы были все пустяковые и, можно сказать, совсем ненужные. Увидя, например, на подоконнике два горшка с «еранью», Соплюн спросил:
— Цветочки это у вас?
— Да-с! — торопливо отвечала Хима.
— Вот и он у меня, — кивнув на Ивана Захарыча, сказал Соплюн, — охотник до цветов… Только он охотник не до таких, а до других…
— До каких-с? — спросила Хима, взглянув на красного Ивана Захарыча.
— До каких-с? — переспросил Соплюн и, улыбнувшись, сказал: — До таких вот розанов, как вы-с… хы, хы, хы!.. Бо-о-льшое п-п-п-п-ристрастие имеет… хы, хы, хы…
Хима покраснела и, сделав умильную улыбочку, потупилась. Иван Захарыч торопливо достал носовой платок и принялся сморкаться. Очко сидел, не меняя позы истукана, и глядел выпученным глазом на Соплюна, словно дожидаясь от него приказания…
Между тем Лукерья Минишна не зевала… Она быстро и ловко уставила стол закусками, принесла из кухни самовар, заварила чай, заставила Химу разливать его, а сама принялась угощать гостей по части выпивки… Делала она это так настойчиво, что невозможно было отказаться…
Иван Захарыч, не желая на первых порах обнаружить свою «слабость», сказал было:
— Не могу-с… Истинный господь, не могу-с!
— Да полно вам, — ответила сваха, — что вы — красная девица?..
— Вино веселит сердце человека, — сказал Соплюн. — П-п-п-ей, Иван Захарыч!
Очко пил молча и с жадностью, «покидывая» рюмку себе в рот так ловко, что в ней не оставалось ни капли, и закусывал только селедкой.
Время шло; в бутылках убывала «чортова водица»; языки гостей делались развязнее. Говорили громко и смело, то и дело хохотали и «прикладывались» к рюмкам.
Хима от сильного душевного волнения и от сознания, что вот, наконец, и она «дождалась» своего, была, можно сказать, даже интересна… В ее лице не было теперь обычного щучьего, хищного выражения, голос был не так пронзителен, как в обычное время, фигура была опрятнее. Вся она точно преобразилась: точно плохую картину тронул кистью настоящий художник, отчего картина сразу ожила…
В разгар беседы пришел скрывшийся у сапожника Федул Митрич. Пришел он озлобленный, ничего не говоря, не здороваясь, уселся на своей лежанке и принялся фыркать носом, как еж, когда его, свернувшегося клубком и выставившего свои иголки, ребятишки для потехи тыкают палкой.
Гостям сделалось несколько неловко… Хима, желая показать перед Иваном Захарычем, какая она примерная дочь, и чувствуя на самом деле прилив незнакомой ей доселе мягкости и доброты, подошла к Федулу Митричу и, взяв его за руку, сказала:
— Тятинька, голубчик… где это вы пропадали столько время?.. Мы вас ждали, ждали… Пожалуйте к столу, выкушайте бальзамцу…
— Да не тяни, — сказал Федул Митрич, — чего ты… знаю, небось, я хозяин…
Он слез с лежанки и, припадая на левую ногу, подошел к столу… Хима подставила ему табуретку. Гости, не знавшие его, почтительно приподнялись и поклонились, а Соплюн протянул руку и сказал, обращаясь точно к старому знакомому:
— Федул Митричу п-п-п-ачтение-с! П-п-п-ируем здесь… а хозяина и нету, п-пропал!
Федул Митрич не ответил. Точно голодный волк, увидавший овцу, он глядел на бутылку. У него затряслись поджилки, а левая нога как-то сама собой, необыкновенно часто, забарабанила подошвой сапога по полу.
— Ну-кась, — сказал он, — насыпь-ка мне вон в энту. — Он указал на чайную чашку. — Не люблю я, — обращаясь к гостям и точно извиняясь, сказал он: — рюмочками чикаться… По-нашему, хлопнул раз, закусил, опять хлопнул… А это что? Какая это спасуда — рюмка? Девкам пить… Сунь палец и нет ни фига… Не-не люблю!..
Теорию эту, выработанную, вероятно, годами, он сейчас же и показал на практике: «хлопнул» чашку, закусил корочкой, подождал минут пять, словно расслабленный, ожидающий у Силоамской купели «движения воды», и снова хлопнул…
Зарядив себя таким образом, он очень скоро сделался чересчур развязен и словоохотлив. Пододвинувшись к Соплюну, он начал рассказывать ему про старину. Рассказы его вертелись больше около выпивки, мордобития, грабежа и разгула…
— У нас, я помню, — говорил он, — служил в управе писарь Ксенофонт Маркелыч Жеребин, не помнишь?
— Нет… не п-п-п-омню…
— Вот, бывало, царствие небесное, пил… Возьмет, понимаешь, в ковшик нальет, хлоп!.. словно вот, сичас провалиться, орех раскусит. А закусывал одной редькой… Ничего ты ему не давай, а редечки… любил покойник, царство небесное… А уж здоров был, а-ах…
— Здоров? — переспрашивал Соплюн.
— Страшное дело!.. По четверке дров березовых швырку с рынку на себе домой таскал… Зимнее дело купаться в прорубь лазал!.. Какой хошь мороз будь, — ему наплевать… Прорубь на реке, где белье полощут, большая. Залезет он в нее поутру, бултыхается, как сом… Вылезает — пар от него валит… Чудак был… На маслянице раз какую штуку отмочил!.. Катанье было… Народу — туча… Купцы эти друг перед дружкой… не так, как теперича, — теперича что, — плюнуть да ногой растереть… Все нарядные, лошади одна другой краше, львы!.. Ездиют это по Московской от Спас-Преображенья до кузниц друг за дружкой… Глядь, что такое? Верхом кто-то катит, хы, хы, хы!.. А это он, Ксенофонт Маркелыч… Сел на кобылу задом наперед, как Иванушка дурачок, хвост в левой руке держит, а в правой полштоф… Тогда бутылок не было, полштофы были… Едет таким макарцем, а сам кричит: «Вот зеркало! вот зеркало!» Было тут смеху, истинный господь! А то, — продолжал он, все больше и больше воодушевляясь, — был у нас в городе купец, — ты тоже, чай, не помнишь, — железом торговал в рядах, где теперича юбочницы торгуют, Субботин Василь Василич… Так тот, братец ты мой, пил-пил… На Рожестве начал, весь мясоед пил, масляницу пил, великий пост пил, а на святой… Мужчина был большой, грузный, чрево одно, истинный господь, три вот эдаких самовара… И представься ему, братец ты мой, что затяжелел он, тысь забрюхател… Кричит благушей: «Рожу… час мой приспел!» Что тут делать? Испугались… туды, сюды… А он все свое… баушку стал требовать… «Умираю, — кричит, — смерть моя… душа с телом расстается… Бегите скорей за баушкой… К попу бегите, чтобы царские врата открыл… Умру сичас!» Что ты станешь делать? Случись это дело дома, наплевать бы, а то ведь схватило-то его средь бела дня в лавке… Орет на все ряды… Дело праздничное, народу много, потеха. Скрутили его кое-как, потащили в больницу… Увидал он там доктора, в ноги ему… «Батюшка, спаси… умираю… шевелится!» Где-то, где-то угомонили его, дали чего-то выпить… Уснул. Ну, после того мальчишки и те над ним смеялись. Идет, бывало, по рядам, а ему: «Ну, как, Василь Василич, как тебя господь простил… кого послал?.. Акульку аль мальчика?»
Хима, между тем, видя, что родитель пристал к Соплюну, и зная по опыту, что теперь он скоро примется ругать ее, приняла против этого решительные меры. Она закатила «тятиньке» еще чашку какой-то перцовки, выпив которую Федул Митрич сразу ошалел, вытаращил глаза и лишился языка, после чего его осторожно увели куда-то в чуланчик, где он и уснул. Тогда пошло настоящее веселье…
Вскоре можно было видеть такую картину. Иван Захарыч, весь красный, с глазами, точно покрытыми лаком, оттопырив красные, толстые и тоже точно покрытые лаком губы, наклонив на бок голову, сидел против Химы и, не спуская с нее глаз, пел, стараясь выводить как можно выразительнее и чувствительнее…
Я сижу и любуюсь тобою,
Все тобой, дорогая моя…
Очко, выкатя налившийся кровью глаз, играл на итальянке. Соплюн и Лукерья Минишна, оба сильно выпившие, блаженно улыбались и иногда об чем-то перешептывались… Виновница торжества, Хима, сначала слушала молча, потупя глазки, потом и сама принялась петь тонким, необыкновенно громким и неприятным голосом…
Я сижу и любуюсь тобою,
Все тобой, дорогая моя… —
начал опять Иван Захарыч.
— Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой… —
завопила вдруг Хима и продолжала, покрывая своим визгом и Ивана Захарыча, и итальянку:
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой. Но увы! —
кричала она, глядя во все глаза на Ивана Захарыча, —
Коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье к другой…
Но иди, —
продолжала она, закатывая глаза под лоб, —
Пусть одна я страдаю
Пусть напрасно волнуется кровь.
И, понизив несколько голос, пустив в него какую-то «дрожь», подчеркивая «для тебя», закончила: