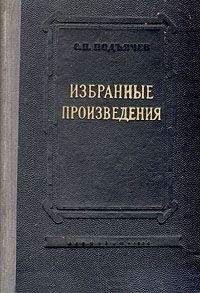Все и каждый следили здесь друг за другом… Все здесь знали, кто какой заваривает чай, что ест, и вряд ли кто-либо из обитателей этой улицы интересовался чем-нибудь другим, помимо «брюшного вопроса»…
«Сыт — и слава тебе, господи, а там хоть гори, мне наплевать»…
Жизнь тянулась вялая, печальная, похожая на вечную осень; «ни день, ни ночь, ни тьма, ни свет»…
Домишко, где жила Хима, как и все дома на этой улице, был деревянный, старый, почерневший, с окнами, выходившими не на улицу, а на огород, и был обнесен кругом забором из полусгнивших тесин. В этом заборе, со стороны улицы, были ворота, державшиеся постоянно на заперти, и калитка с покачнувшейся на левую сторону дверью. В калитку было вделано большое кольцо, которым и стучали, чтобы хозяева услышали и отперли.
Здесь, направо и налево, были канавы, обросшие «сабашником» и крапивой, куда из-под забора со двора стекала вонючая желтоватая жижа… На воротах сверху были приколочены, вероятно для красоты, два грубо сделанных из жести петуха, выкрашенных красной краской, а на брусу, над калиткой, был «пришит» гвоздями небольшой медный крест со звездочкой посредине…
Подойдя к калитке, Соплюн достал из кармана огромный клетчатый носовой платок, пропитанный запахом мяты, встряхнул им, высморкался, обтер лицо, окинул взглядом чему-то робко улыбавшегося Ивана Захарыча и сказал:
— П-п-п-ришли… оботри ноги-то… п-постучать надо…
Он взялся за кольцо и постучал им о дверь. За воротами сейчас же раздался кашель, и кто-то спросил тоненьким детским голоском:
— Кто тутатко?..
— Мы-с! — сказал Соплюн.
— Отпирай, дура, — послышался за воротами громкий шопот, — отпирай скорей!..
— Сичас… отопру! — раздался опять тоненький детский голосок, — сичас!..
Послышался звук выдвигаемого запора… Калитка как-то необыкновенно громко и жалобно заскрипела ржавыми петлями, точно закричала: «бо-о-о-льно!» — и отворилась, еще больше покачнувшись налево. За дверью стояла девочка лет двенадцати и большими испуганными и вместе любопытными глазами глядела на гостей. Предусмотрительная Хима нарочно взяла ее у соседа сапожника, чтобы тотчас же впустить гостей, как только постучатся.
— Не самой же мне бечь отворять, как придут, — говорила она, — еще подумают: ишь, обрадовалась, дожидается…
— Дома хозяйка? — спросил Соплюн.
— А то где же? — спросила девочка.
— Где п-п-п-ройтить-то… п-п-п-рямо, что ли? — спросил он, хотя отлично знал дорогу.
— А то куда ж? — опять так же простодушно переспросила девочка…
Соплюн оглянулся на товарищей и пошел через небольшой двор с навесами к крылечку.
Здесь на свежевымытых ступеньках, где была положена для обтирки ног рогожка и стоял в уголке голик, он остановился, обшаркал сапоги, опять высморкался и, подождав, когда Иван Захарыч с Очком проделали ту же процедуру, молча, с серьезным видом, взялся за скобку двери, обитой старой клеенкой, отворил ее и переступил через порог…
Вслед за ним вошли Иван Захарыч, державший в руке картуз, и Очко с итальянкой подмышкой…
Гостей ждали… Много хлопот и лишних расходов принесли они Химе. Но она не жалела об этом. Еще накануне, в субботу, она начала «сновать основу», по выражению ее отца Федула Митрича, и сновала ее почти вплоть до прихода гостей…
Угощение было приготовлено на славу… Испечено было два пирога: один с рисом, другой «сладкий», с малиновым паточным вареньем… Купили два сорта колбасы, две коробки «шпротов» и селедок на случай, если он «солененькое любит»…
— Матушка, царица небесная! — шептала Хима, обращая взоры в угол на то место, где находилась чтимая ею икона «Утоли моя печали», — пошли ты мне! пошли ты мне!..
Почтенный родитель, Федул Митрич, несколько раз бегал к соседу сапожнику поделиться семейной новостью…
— Платоныч, — говорит он, — ты что знаешь, а?.. Моя-то окаянная плоть-то замуж собралась, а?
— Ну-у-у?!.
— Сичас издохнуть!.. Гляди-кась, кака пошла приготовка… в светло христово воскресенье того не бывает… Селедки, пироги, кильки, водка никак двух сортов, пиво бутылочное, лиссабонское… Лукерья-сваха тут же вертится, тьфу ты, окаянная сила! Где бы не согрешил на старости лет, ан согрешишь… Ну, и попадет дурак какой-нибудь, как сом в вершу… Вгонит она его в гроб, не дожимши веку!..
— Кто ж это такой нашелся?.. — недоумевал Платоныч.
— А чорт их, — прости Меня, господи, не согреша согрешишь, — знает… Разнюхала, знать, сука-то, сваха, где-нибудь… Тьфу ты! Пойти поглядеть, что она там… как…
Он приходил домой, садился на лежанку и опять злорадно следил за «основой».
— А-а-а, гости дорогие! — встретила гостей Лукерья Минишна. — Пожалуйте… сделайте милость, пожалуйте… раздевайтесь… Марко Федрыч, Иван Захарыч (на Очка, стоявшего, выкатя единственный глаз, с итальянкой подмышкой, она не обращала внимания). Сюды вот одежду-то вешайте… вот на гвоздочек… пожалуйте…
Соплюн повесил пальто на указанное место, высморкался опять в свой носовой платок, кашлянул в руку и сказал:
— Здравствуйте, Лукерья Минишна… с п-п-п-раздником! П-п-п-агода какая неблагоприятная… п-п-п-о-топище…
— Да-с, — согласилась с ним Лукерья Минишна. — Пожалуйте в горницу… Давно поджидаем, — шепнула она и подмигнула глазом.
— Гм! — кашлянул Соплюн и пошел вместе с Иваном Захарычем и Очком.
Здесь их встретила Хима, вся красная от волнения, с испуганными глазами…
Одета она была, по выражению Лукерьи Минишны, «просто, но со вкусом»… На ней был сшитый года два назад, лежавший без употребления в сундуке, «натяжной лиф» темно-красного, «бурдового цвета» и синяя «с отливом» юбка… Талия была перетянута ремнем с блестящим набором, очень похожим на подпругу. На ногах были надеты «щигреневые» башмаки на низких каблуках, «с благородным скрипом». Волосы на голове она взбила копной, напустив их на виски, а на затылке закрутила каким-то затейливым узлом, называвшимся, по ее выражению, «раненым сердцем»… Это «раненое сердце» и «натяжной лиф», и юбку, и, кажется, даже башмаки облила она духами «Поцелуй амура» с той целью, чтобы «отшибить» запах пота.
В горнице все было прибрано, вымыто, выскребено, приготовлено, точно к светлому дню.
Пол, застланный от порога до переднего угла, где стоял стол, узеньким половиком, был вымыт с мылом, так что по нем, казалось, неловко ходить в сапогах… На окнах были повешены «гардины», то есть тоненькие кисейные занавески, перевязанные внизу лоскутьями из кумача… Проход из горницы в кухню к печке завешен был ситцевой занавеской. Здесь, на скамейке и на столе, стояли приготовленные закуски: селедки, колбаса, шпроты и пр. Около печки, на полу, стоял уже вскипевший самовар, в который можно было глядеться, как в зеркало.
В шкафу со стеклянными дверцами по полкам была расставлена «лучшая» посуда: чашки чайные, бокалы с надписью: «Дарю в день вашего ангела», «Куй железо, пока горячо», блюдечки, тарелки, рюмки, сахарница в виде наседки, какая-то зеленого цвета бутылка, изображавшая из себя медведя, и т. п.
Из-под кровати, стыдливо завешенной кумачовой «откидной» занавеской, выдвинут был край большого крашеного суриком и обитого жестью сундука; в нем хранилось химино приданое, и выдвинут он был так ловко, что сразу бросался в глаза и как бы говорил: «Вот он я… глядите… эва какой».
На лежанке, где обыкновенно «обитал» Федул Митрич и постоянно валялась «в головашках» грязная подушка и не менее сальная поддевка, теперь было чисто… Сам Федул Митрич отсутствовал…
Гости раскланялись с Химой, поздравили ее с праздником, спросили: «Как ваше здоровье?» — и, наконец, по ее приглашению, уселись все трое в передний угол, под святые иконы, к столу, покрытому какой-то сероватого цвета, прочной скатертью.
— Чайку не угодно ли? — спросила Хима, делая на своем лице «умильную» улыбку.
— П-п-п-ризнаться сказать, п-п-п-или, — сказал Соплюн. — А между прочим, пожалуйте, по чашечке перекувырнем для препровождения времени-с…
— Сиди, матушка, сиди, — уговаривала между тем Химу сваха, — сиди, занимайся своим делом с гостями… я сейчас и чайку, и закусить, и все!.. Да вы, Марко Федрыч, Иван Захарыч, не церемоньтесь, сделайте милость… У нас ведь попросту… Сейчас я самоварчик… А вас как звать-то! — на ходу спросила она у Очка, окинув его с головы до ног подозрительным взглядом.
Очко, сидевший на кончике стула с выкаченным глазом и не ожидавший вопроса, вскочил и почти крикнул:
— Иваном-с, сударыня!
— А по батюшке?
— Никаноров-с, сударыня!
— Ну, будьте гостем, Иван Никанорыч, — сказала сваха снисходительно и юркнула под занавеску в кухню…
Гости засиделись… Сначала все шло как-то по-чудному, все изображали из себя не то, что надо, а совсем другое, ненужное и мучительное для них самих… Тянулось такое мучительное состояние довольно-таки долго… Разговоры клеились плохо… Иван Захарыч только и говорил два слова: «да-с» и «нет-с»… За всех говорили Соплюн да Лукерья Минишна, которой, впрочем, некогда было много разговаривать: она хлопотала с угощением и бегала, «делая юбкой ветер», из комнаты под занавеску в кухню и обратно…