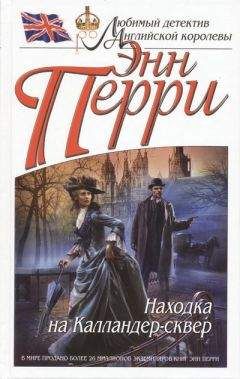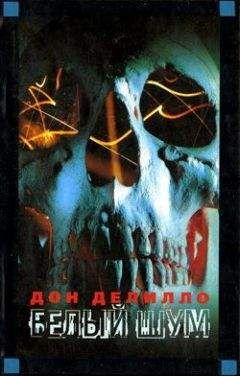— Значит, и жену по нынешним временам учить нельзя?
— Жена не дитя. Ту дуй пока, сколько влезет. Впрочем, чего доброго, пожалуй, и эту эмансипацию у нас скоро отнимут и заведут общество покровительства женам.
— Не заведут. Где же видано это, чтоб бабам потачку давать? Баба — последний сорт.
— Так в покровительство-то детям запишешься, что ли? — спросил сосед.
— Еще бы не записаться! Расчет прямой. По десятке внесем и запишем так, что будто нам на эти деньги полушубок в стуколку вычистили.
— Стало быть, теперь за наше членство выпить спрыски надо.
— От спрысок никогда не отказываются. Зачем утробе сохнуть? Ее надо промачивать. Молодец! Тащи сюда графинчик с бальзанчиком!
Через пять минут купцы чокались рюмками. [15]
В одном из рыночных трактиров, важно откинувшись на спинку кресла, с сигарой во рту и за столиком особняком сидит толстый купец с подстриженной под гребенку бородой и с презрением смотрит на все окружающее. Перед ним стакан с водой и рюмка абсенту. Входит тощий и юркий купец с усами, снимает с себя шубу, кладет ее на стул, и, увидя толстого купца, раскланивается с ним.
— Константину Федосеичу особенное!.. С приездом честь имею поздравить! — восклицает он. — Давно ли изволили из заграничных-то Европ?
— В четверг с курьерским… — важно отвечает толстый купец и, не изменяя своего положения, барабанит пальцами по столу.
— Ну, как там: все благополучно в Европах-то? Понравилось ли вам?
— Деликатес.
— Нет, я к тому: какую чувствительность теперь ко всему нашему чувствуете?
— А такую, что я вот даже после Европы компании себе не нахожу.
— Дико?
— Еще бы при невежестве-то да не дико! Нешто там, к примеру, такие трактиры есть?
— Чище?
— Чудак! Там либо ресторант, либо биргале. И сиволдая этого, что у нас трескают, и в заводе нет.
— Да ведь то иностранцы, а без сиволдая-то как будто русской утробе и скучно.
— Поймешь европейскую современность, так будет и не скучно, а даже меланхолию почувствуешь, когда на него взглянешь. Претить начнет.
— Чем же там народ свое хмельное малодушество доказывает?
— А вот чем, — отвечал толстый купец и показал на рюмку. — Это абсент. С него только одну культуру в голове чувствуешь, а чтоб заехать кому в ухо — ни боже мой! Ошибешься им, так даже ругательные прения тебе на ум нейдут, а только говоришь: пардон. И пьют его там не так, как я теперь пью. А поставят рюмку в большой стакан и нальют его водой. Рюмка закрыта водой, из абсента дым в воду идет — и вот этот самый водяной дым глотают. Сейчас я потребовал себе большой стакан и хотел по-европейскому садануть, но здешние олухи даже не понимают, какой фасон мне нужно.
Тощий купец покрутил головой.
— Пошехонье здешний прислужающий, а нет, так углицкий клей, так вы то возьмите, где ж ему иностранные порядки понимать, — сказал он и подсел к толстому купцу. — Ну, как немцы? В Неметчине-то были ли?
— Еще бы. Неметчину никак объехать нельзя. С какой стороны ни заходи — все на немца наткнешься, — дал ответ толстый купец. — В Берлине я трое суток в готеле стоял. Первое дело — там даже городовые есть конные и все собаки в намордниках. Приехал я в «Орфеум» — на манер как бы наш Марцинкевич[16] — кельнеры меня за полковника приняли и честь отдают.
— Это что же такое кельнеры, войско ихнее что ли?
— Дурак! И разговаривать-то с тобой не хочу.
— Зачем же вы, Константин Федосеич, ругательную-то литературу поднимаете? Ведь я в заграничных Европах не бывал. Вы только поясните.
— Кельнер — это прислужающий. В Неметчине кельнер, а во Франции — гарсон.
— А дозвольте спрос сделать, где больше деликатности: во Франции или в Неметчине?
— Нешто есть какое сравнение! Франция совсем особый коленкор. В Берлине пиво, а в Париже красное вино. Бир и ординер. Ординером можешь сколько угодно накачизаться, и разве смутит только, а интриги супротив противуположной личности не почувствуешь. С пива же немецкого все-таки некоторый зуд в руках и антипатия в голове. Но бог уберег.
— То-то я знаю, что вы на руку скоры, — заметил тощий купец.
— Коли я с образованными людьми, я сам образование в себе содержу, — отвечал толстый купец.
— А Англия?
— До той пятнадцать верст не доезжал. Приехал в Кале, встал на берегу Средиземного моря, проводник говорит: «Вон Англия на той стороне». Стою и думаю: переплыть или не переплыть? Но порешил так: англичане народ драчливый и этот самый бокс у них, а я сам люблю сдачи давать, так долго ли до греха… Ну, плюнул и остался во французских землях.
— И нигде никакой воинственности из себя не доказали?
— В Швейцарии одного швейцара в ухо съездил, но на восьмидесяти франках помирились. Из арфянки в кафе-шантанном обществе междометие вышло. Я ей «фору» и «бис» кричу, а он шикает, да меня палкой по плечу… Ну, я не вытерпел и сделал карамболь по красному.
— Ну, швейцара, так это ничего, а я думал, барина.
— Да он и барин был. Из лекарей какой-то.
— Барин, а сам в швейцарах служит? Вот те клюква!
Толстый купец вспыхнул.
— Дубина! Да ведь в швейцарской-то земле каждый человек швейцар, ежели не иностранец! — крикнул он.
— И все у дверей стоят?
— Иван Савельев, я тебя побью! Теперь я на русской земле, а не на заграничной Европе, и вся эта иностранная культура сейчас у меня из головы выскочит, — сверкнул глазами толстый купец. — Неужто ты того понять не можешь, что в Швейцарии каждый человек швейцаром называется, хотя бы он графского звания был. Во Франции француз, в Англии англичанин, а в Швейцарии швейцар. Понял, дура с печи?
— Еще бы не понять. Так ты бы так толком и говорил.
— В Швейцарии, кажется, каждый человек швейцарцем называется, а не швейцаром, — откликнулся с другого стола какой-то посторонний посетитель с баками.
Толстый купец вскочил с места и подбоченился.
— Какого звания человек? С кем я разговариваю? — надменно спросил он.
— С надворным советником и кавалером Перепетуевым, — был ответ.
— Ну, это другое дело, — сдался толстый купец. — Так ведь швейцарцем мы его здесь, по нашему невежеству, прозвали, а в швейцарской земле он швейцаром зовется. Спроси его: какая твоя нация? — Швейцар. Ну, вот, господин надворный советник, я дал вам свой ультиматум, а уж теперь оставьте меня в покое, — прибавил он и сел. — Потому я даже не знаю, бывали ли вы заграницах-то.
— Можно и в заграницах не бывать, а знать лучше бывалого, — попробовал огрызнуться посторонний посетитель, но толстый купец стиснул зубы и молчал.
С толстым купцом хотел продолжать разговор и его тощий собеседник, но тоже не получил никаких ответов и отошел от него. Толстый купец сидел неподвижно, как статуя, дымил сигарой и только вздыхал. Сделав изрядную паузу, он позвонил рюмкой о стакан и крикнул:
— Гарсон, анкор!
Стоящий поодаль служитель, будучи уже обучен этим словам, бросился исполнять требуемое. [17]
К подъезду государственного банка кровный тысячный рысак подвез расчесанную рыжую бороду, дорогую ильковую шубу и соболью шапку. Кучер осадил рысака, и борода, шуба и шапка, откинув медвежью полость, вышли из саней, надменно и гордо, сделав кучеру какой-то знак рукой, украшенной бриллиантовыми перстнями.
— Слушаю-с, Захар Парфеныч, — отвечал кучер и спросил: — Ежели долго в здешнем месте пробыть изволите, то я рысака-то ковром прикрою? Потому взопревши очень. Эво мыла-то сколько, а теперь стужа…
Борода, шуба и шапка утвердительно кивнули головой и, выпялив брюхо вперед, важно направились в подъезд.
На сцену эту в удивлении смотрели стоящие около банка извозчики. Когда кучер отъехал в сторону, они обступили его и стали расспрашивать о хозяине.
— Кто такой? — спросил извозчик.
— Богатеющий купец по подрядной части Захар Парфеныч Самоглотов, — отвечал кучер.
— То-то птицу-то видно по полету. Немой он из себя, что ли?
— Нет. А что?
— Да вот мы к тому, что он ничего не говорит, а только руками показывает.
— Он у нас завсегда так. Богат очень, так оттого. Большущие миллионы у него.
— И ни с кем не разговаривает?
— С равными разговаривает, а с домашними и с прислугой больше руками да головой.
— Вот чудак-то! — дивились извозчики. — И давно так?
— Больше после войны, потому у него тут подряд чудесный был с неустойкой от казны, но совсем настоящего разговора он лишился с тех пор, как у него завод сгорел, а этому месяцев пять будет, — рассказывал словоохотливый кучер, покрывая рысака ковром.
— С перепугу у него, верно, словесность-то пропала?
— Какое с перепугу! Просто оттого, что он уж очень много денег за пожар получил.